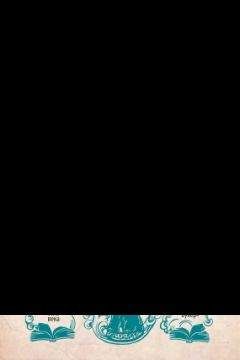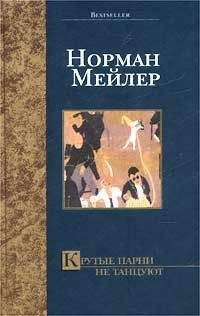Нет, любовь невозможна без памяти.
Отдав дань глухой, уютной тьме, заполнившей без остатка, без укромного уголка для какой-либо мысли или хотя бы зыбкого контура чувств первые два года жизни, мое сознание просыпается позже — в весеннем желтом дне, теребящем занавеску на распахнутом окне, сквозь которое я вижу мигающую картинку: обветренный серый скворечник меж колеблющихся ветвей, в котором, то выныривая, то вновь исчезая, ворожит и торопится что-то сказать мне быстроклювая, нервная птица. Я иду ей навстречу, ступая босыми ногами по зеркальным паркетным лужицам; подойдя к подоконнику, ложусь грудью на крапчатый мрамор и пытаюсь вскарабкаться выше, чтобы ближе придвинуться к зову скворца. Подо мною темнеет земля. Я ее не боюсь: страх еще мне неведом. Во мне пока дышит одна лишь душа. Схватившись за штору, я усмиряю ее колыхание. Теперь между мною и миром ничто не стоит. Преград больше нет. Картина уже не мигает, а расстилается перед глазами сплошной, сочной свежестью. Я словно бы часть ее — лужайки и неба, и старого клена, чирикания в нем, и безмятежного тихого звона, пронизавшего все вокруг лучистым сиянием радости. Я делаю шаг и парю, очень медленно, кротко, просторно; я рею. Я плыву на упругой волне тягучей, душистой свободы, и она меня плавно уносит то вверх, где мне здорово, то роняет на глубь, где мне очень смешно. Мой полет продолжается дольше, чем то разрешается временем, ибо я вне его: место времени занято этим текучим привольем — потому, вероятно, что во мне, повторюсь, дышит только душа. Нарезвившись в ликующей хляби, я подплываю к скворцу и тяну к нему ждущие руки. Птица странно застыла. Она не поет. Я шепчу ей — еще не слова, а зародыши слов, которые даже честнее. Но скворец отчего-то не откликается, только смотрит веснушчатым глазом — в нем отражается крошевом пробившийся через сплетенье ветвей почему-то тускнеющий свет. Мне становится вдруг очень зябко. Вздрогнув, я возвращаюсь в плен покрытой мурашками кожи, бледной, стылой, казенной, чужой. В ней я съеживаюсь, сокращаюсь, сжимаюсь, мельчаю до размеров пустячного тела, которое волочит меня за собою — вниз, вниз, вниз, туда, где темно и мутит. Волны больше нет. Вместо солнца — игольчатость сумерек. Ими колет глаза. Надо мною кто-то кричит. Я лежу на полу, как на пылающем холодом льду, и пытаюсь подняться. Этот крик меня давит. Надо мною склонилось лицо. В нем залог предстоящей мне отрешенности. С лица капает пот — мне на платье, на белое тонкое платье, прожигая в нем клейкой, точно расплавленный воск, моросящей, противною сыпью кружков подобие костенеющих пуговиц. Я чувствую, как они методично застегивают на моей почти в пепел угасшей душе петлички блаженного ужаса. Я цепенею, немею, сдаюсь…
Дом отмечает спасение громким застольем. Я прячусь в детской и, укрывшись одеялом, притворяюсь уснувшей. Наслаждение собственным страхом приходит не сразу, зато очень надолго (я буду отныне ему предаваться почти каждый день, год за годом, пока не пойму, что мое одиночество повзрослело и не нуждается больше ни в ком, даже в этой самой заботливой, чуткой, радетельной из числа моих нянь, которых за годы сменится уйма).
Весь следующий день я провожу у ломберного стола в гостиной, разглядывая забытую на нем шахматную доску. Мое внимание поглощает простое двуцветье. В нем я обретаю родню. Наверно, мне кажется, я понимаю: черное с белым, между ними нет даже границы. Вернее, она вроде бы есть, да никак не видна…
Как рассказали мне позже служанки, не особо жаловавшие хозяина, — пожалуй что, ревновавшие его к тем ушлым молодчикам, кого он, не скупясь на награды, привечал в своей спальне, — дядюшка снимал в ту пору целый этаж в трех кварталах от дома родителей. Туда меня и забрали сразу после их похорон. Однако жить там, как прежде, у него не заладилось: по утрам на мебели комнат, прилегающих к гостеприимному его алькову, внезапно стали примечать капли влаги — „как после густого тумана“. Стерев „росу“ губкой, прислуга с удивлением обнаруживала, что капли незамедлительно появляются вновь. Источник утечки воды определить не удалось: все стенные перегородки оказались сухи. Обследовав кровлю, удостоверились, что черепичный панцирь также находится в образцовом порядке. Стропила на ощупь были такими же, как и любое другое оструганное для этих целей бревно. Однако вода являла себя все обильней. В один прекрасный день, когда дворецкий, приняв от служанки поднос с вином, переносил его из коридора в гостиную, серебряное блюдо „буквально по пути“ (полтора десятка не слишком быстрых шагов) наполнилось до краев прозрачной жидкостью, вызвав немалую оторопь игроков в преферанс.
Выказавши недюжинное упрямство, мой опекун терпел напасть несколько месяцев, пока вода не начала бить струями из-под его кровати и вдобавок сочиться по стенам и потолку. Лишившись приятной устроенности быта на важнейшем участке обжитой им территории, дядюшка вынужден был отступить на время от мысли сдать внаем дом погибшего брата (продать его с ходу запрещал пункт завещания, согласно которому все сделки с недвижимостью могли осуществляться только прямыми наследниками, да и то — по достижении совершеннолетия, до которого мне, ясное дело, было пока далеко. Удивительно все-таки, до чего прозорливы бывают порой мертвецы — даже если уйти на тот свет совсем не входило в их планы). Так вернулись мы в особняк, где я родилась.
Увязать странное происшествие со своею племянницей дяде Густаву на ум пришло лишь годы спустя, когда в разговоре с ним, вспоминая свое изначальное памятью утро, я упорно стояла на том, что летала, он же — наивный свидетель, возомнивший себя еще и спасителем, — отстаивал достоверность того, что узрела тогда впопыхах его близорукость. Дескать, мой нырок из окна — чистый вымысел: в последний момент он успел меня подхватить и „вырвать из пасти разверзшейся бездны“. Высокопарная риторика, к которой он обычно не прибегал, изобличала скорее его невольное сожаление о своем опрометчивом шаге, нежели указывала на затянувшееся потрясение от когда-то увиденной сцены. Подозреваю, он не раз пожалел, что, поднимаясь ко мне в тот день, не споткнулся на лестнице: думаю, завидев меня на подоконнике, он чересчур растерялся, чтобы сохранить способность соображать. Случись ему хотя бы мгновенье подумать, он бы так не спешил поймать мое платье…
Моя убежденность в состоявшейся левитации его озадачила. Обуреваемый противоречивыми эмоциями атеиста, втянутого нечистой силой в таинственную игру, он заподозрил неладное. И был по-своему прав: есть чудаки, для которых дольнее притяжение является главным условием существования — чем-то вроде пожизненных гарантий сохранности их капитала, навсегда защищенного от колебаний курса земных акций на капризной погодою бирже небес. Любой непроизвольный взлет воспринимается ими как оскорбление и угроза благополучию. Стоит свершиться чему-то такому, что берет под сомнение их безнадежно прочный, приземистый мир, как он начинает шататься, будто в основе его напряженной, унылой весомости наличествует некий серьезный изъян. Между тем не надо быть семи пядей во лбу, чтобы усвоить нехитрую истину: по сути своей мир невесом. Его нельзя ни к чему привязать. Тем паче — к себе самому. Пуповина и здесь режется вместе с рождением. Иначе как объяснить поведение Создателя, пустившего на самотек свое творенье после неполной недели работ?..
Однако я отвлеклась.
Итак, дядюшка заподозрил неладное и наказал прислуге не спускать с меня глаз. Потворство склонностям этого ушлого племени к соглядатайству, хотя и распалило азарт слежки, вдохновляемой до сих пор разве что свойственным челяди бескорыстием любопытства, не дало ничего, кроме пары глупых догадок да несуразных сплетен про то, как я услаждаю в ночи свою плоть. Доклады слуг, возбужденных филерской забавой, вызывали у опекуна лишь кривые усмешки. Затея его провалилась. Разумеется, он понимал, что преуспеть в своих каверзах ему вряд ли было возможно: как уследить за тем, что вершится внутри человека, даже если тому от роду десять лет? Но не попробовать дядя тоже не мог: вдруг в моем поведении что-то такое проявится? К слову сказать, примерно в это же время он пристрастился к столоверчению, как раз входившему в моду. Думаю, спиритические забавы споспешествовали подспудному чаянию дядюшки вывести трепетом пальцев зыбкость из почвы, дрогнувшей под его здравомыслием. Так по ночам в нашем доме оформлялся курьезный круг, сомкнутый коленями наскучивших жизнью скептиков. Они жаждали сверхъестественного, но — лишь как новизны впечатлений, шанса развлечься, пусть даже ценою щекочущих нервы испугов и унижений (духи всегда вещают лишь то, что способен услышать сладострастно внимающий разум; потому строить догадки о том, что говорилось в подлунные ночи в гостиной, несложно). Мистицизм свойствен тем, кто не верит в разборчивость чуда, принимая его за разновидность разменной монеты, чей номинал хотя и высок, но вполне по карману, — были бы деньги… Я бы сказала, мистицизм сродни мазохизму: та же плеть, только бьет послабей.