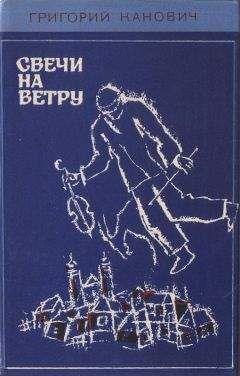И небо без желтой латы, подумал я.
Мимо промчался военный состав. На открытых платформах грудились новехонькие танки с огромными крестами на броне. Кресты полосовали нас, как молнии, и мы подавленно глядели им вслед, пока они не скрылись за поворотом. Тут, брат, на подножку не вскочишь, тут до родного порога не доберешься ни на час, ни на миг.
Родись я немцем, я бы, наверно, сейчас мчался с ними. На Восток, к русским полям, к русской зиме, к Тобольску, где когда-то родился младший лейтенант Коган.
Сын Сарры Вильгельм, будущий кайзер будущей Германии был бы счастлив. Сидел бы на броне или высовывался бы из люка и играл бы на губной гармонике? А я?
В ушах еще долго стоял, неумолимый грохот колес. Похоже, он выжег вокруг все звуки, даже сердцебиение, а кресты на броне перечеркнули все: и нас, и город, до самого горизонта.
Дорога на Садовую вела мимо еврейского кладбища.
В проломах полуразрушенной стены серели плоские выщербленные надгробия.
На мгновение мне почудилось, будто я вернулся домой, в нетопленную избу моего опекуна Иосифа, к нашей савраске, заждавшейся меня в сарае.
И вдруг я услышал ржание — заунывное, протяжное.
Я просунул голову в пролом стены и возле надгробия из черного зернистого гранита увидел пустую телегу. На земле, как рельсы, чернели поваленные оглобли. Тут же были разбросаны постромки, зиял изъеденный потом хомут.
Сама лошадь паслась поодаль.
Я подошел поближе.
Три мужика деловито и неспешно валили ломами надгробие.
От камня во все стороны летели осколки.
— Бог в помощь! — сказал я.
— Ты чего тут шляешься? — пробасил один из мужиков и приблизился ко мне.
— Евреев крушите? — деланно равнодушно спросил я.
— А тебе какое дело?
Мужик держал лом, как винтовку.
— Так им и надо, кровопийцам. Так им и надо! — голос у меня дрожал, щеки пылали.
— Ступай отсюда! — посоветовал мужик.
Совет был разумный. Надо было убираться. Но я стоял как вкопанный. Стоял и ждал, пока они примутся за меня, пока от меня во все стороны полетят осколки, клочья, ошметки.
— Может, говорю, помочь?.. Почем берете за камушек?.. Позарез деньги нужны.
Я лез на рожон, но мужик попался ядреный.
— Приходи завтра, — буркнул он. — Камней на всех хватит.
Он привел лошадь, запряг ее в телегу, подождал, пока двое остальных погрузят на нее надгробие, дернул вожжи, и я только успел прочесть на черном зернистом граните:
— ЗАЛМАН КАЦНЕЛЬСОН. 1876–1936.
Куда вас повезли, реб Залман?
Меня бил озноб.
Пусть грабят золото, думал я, пусть морят голодом, пусть вешают на грудь желтую мишень — только пусть не трогают наших мертвых. Все мертвые равны. Все мертвые одного племени — племени мертвых… И несть им числа!
Телега выкатила за ворота кладбища.
Поначалу я думал, что это слезы текут у меня по щекам, но это были не слезы, а дождь.
Когда я пришел на Садовую, дождь совсем очумел — лило как из ведра.
Мне долго не открывали. Видно, никого не ждали или не хотели выходить. Кому охота высовываться в такую погоду, лежи и дрыхни на печи, если не желаешь погреть руки на Залмане Кацнельсоне.
Наконец щелкнула щеколда, и в проеме выложенных тряпьем дверей, как озерцо среди осоки, сверкнула среди всклокоченных волос лысина.
— Циценасы тут живут?
— Мы Циценасы, — без всякого интереса сообщила лысина.
— От Юргиса я.
— Какого Юргиса? — чихнула лысина, не впуская меня, но и не исчезая.
— Родственника вашего.
— Мои родичи все померли, — пожаловался человек, и у него на переносице сдвинулись брови — две гусеницы встретились на ветке.
— Значит, вашей жены, — сказал я. — Она скоро будет?
С меня текло ручьями. Мне хотелось войти в сени, сбросить одежду и выжать ее.
— Разве бабу поймешь? Баба, она как туча. Нет, нет и вдруг повиснет над головой, — ответил человек, удивленный моей проницательностью.
Он был готов говорить о чем угодно, только не о Юргисе.
— Можете меня не бояться, — успокоил я его.
— А я не боюсь… Вы местный?
— Нет.
— Откудаво?
Я назвал местечко.
— Как же… как же, — оживился он.
— Юргис просит, чтобы вы съездили в местечко и передали его жене, что он жив.
— Ты что-то путаешь… Вы что-то путаете, — поправился он.
Я повернулся и зашагал прочь.
Простаком прикидывается, подумал я. Он сразу понял, о ком я говорю, недаром у него на переносице брови сдвинулись. Брови не лгут. Таких Юргисов раз-два и обчелся. Выкрест в Литве такая же редкость, как землетрясение.
Господин Циценас, осенило меня, тоже живет в гетто. Только его гетто без ограды, без колючей проволоки, без часовых у ворот, за дверьми, выложенными тряпьем, за словами, пропитанными недоверием… Страх, страх, страх — вот его гетто. И оно в отличие от нашего — добровольное.
— Куда ж вы в такой ливень, — догнал меня голос Циценаса.
— Некогда, — сказал я.
Скоро в городе начнется комендантский час. Да и Юдл-Юргис бог весть что подумает. Не так уж он во мне уверен. А вдруг плюну на все: на улицу Стекольщиков, на всех Пранасов, родственников и сирот, плюну и сбегу?
Глупо бежать из одного гетто в другое. Глупо.
— Вот у моей Брониславы родственников, как у того вшей, — усовестился Циценас. — Посидим, чайку попьем, обсохнете.
Я согласился, разделся в сенях догола и стал выкручивать одежду.
Циценас стоял рядом, не сводил с меня глаз и приговаривал:
— Первый раз вижу обрезанного… Первый раз…
Он расстелил на печи мои штаны и рубаху, снял с гвоздя поношенный полушубок и, стыдясь своего любопытства, пробормотал:
— Мой полушубок без самогонки не греет.
Циценас быстро принес бутылку и разлил в стаканы.
Мы выпили, не чокаясь и не закусывая.
— Как он там… Юргис? — заговорил он.
— Ничего.
— Беда, — промолвил Циценас. — Детишки осиротели… Семья без кормильца… Беда…
За окнами хлестал ливень. Циценас то и дело поглядывал на дверь, как будто оставил ее открытой, и в его взгляде, увлажненном хмелем и искренностью, сквозил уже не страх, а пугливое участие и жалость. Кого он жалел? Меня? Юдла-Юргиса? Себя? А может быть, ливень, который зря истязает землю?
— Никуда Бронислава не поедет, — сказал он и снова налил сивухи. — И мне не позволит… Все равно же вы вроде бы померли… померли для всех…
Он опрокинул стакан, и я последовал его примеру.
От мокрой одежды шел пар. В комнате было тепло от печи, от хмеля и одиночества.
— Пойду, — сказал я.
— Посидите еще маленько, — нетвердо произнес Циценас. — Когда вы входили, вас никто не видел?
— Никто.
— Хочешь — возьми себе полушубок. У меня другой есть…
— Он же у вас без самогонки не греет, — пошутил я, кутаясь в него.
От полушубка пахло углем и чужим потом. И еще от него пахло моим опекуном могильщиком Иосифом, и мне не хотелось снимать его с продрогших плеч, ибо воспоминания греют не хуже, чем брага.
— И самогон бери, — расщедрился Циценас. — Выпьете с Юргисом… Он мастак… В старые добрые времена один с бутылкой расправлялся. Расправится, бывало, и — петь… Здорово он наши песни пел… Душевно… Особливо про уланов. «Прискакали уланы… Шинкарка, шинкарка»…
Циценас напел мотив, устыдился и осекся.
Я встал, подошел к печи, сбросил с плеч воспоминания и оделся.
Рубаха почти высохла, а штаны прилипали к икрам.
— Не обижай меня, — тихо попросил Циценас. — Возьми полушубок. Пригодится. Зима на носу.
— Я его для Юргиса… — сказал я, и Циценас прикрыл за мной дверь. Прикрыл и огляделся. Никого. Ни души…
У каждого свой немец, подумал я. У Циценаса, видно, немец — жена…
Что я скажу Юдлу-Юргису? Что он помер для всех… для жены… для Владаса… для Моникуте… Для всех Циценасов, сколько бы их на белом свете не было?.. Что больше нечего ходить на Садовую, потому что ничего не вернешь, только душу растравишь, только губы искусаешь до крови.
Пусть хоть полушубок порадует его, пусть утешит на время, пусть возбудит надежду. Все равно я ему правды не скажу. Да посылал ли он меня за правдой?
Возле еврейского кладбища я задержался и прислушался. Ни храпа лошади. Ни ударов лома. Тихо, как, должно быть, среди покойников.
Интересно, кто валит надгробия в нашем местечке? Валюс? До такого заработка он не унизится. Туткус? Он и мертвых боится.
Кто же?
Почем в местечке кладбищенский камень? Строят ли из него коровники? Или, может, памятники? Неужели по всей Литве так?
Не может быть.
Хоть одно кладбище где-нибудь да уцелеет, пусть не в этом городе, пусть не в нашем местечке. Уцелеет, и вороны будут гнездиться в его соснах, и трава вместо молитвы будет шелестеть по весне.
— Вот, — сказал я, когда добрел до водокачки, — подарочек! Ваши родственники посылают вам привет и полушубок.