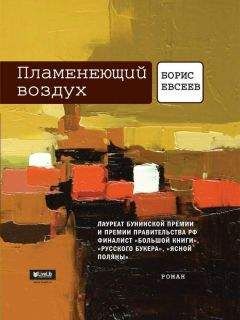— Насчет дара — спорить не буду. Уговорил ты меня, Иван Афанасьевич. Пошлю узнать в полицейскую Експедицию, что там да как.
Здесь Иван Афанасьевич еще раз оглянулся, примолвил:
— Есть и третья бумага. Собственно, не бумага, письмо. В квартире Фомина сыскалось. Видно, обронил кто-то. Письмо ученой латынью было писано. Так я упросил толмача знакомого перевесть. Уж не знаю: показывать ли?
— Назвался груздем — полезай в кузов. Давай сюды толмачову бумагу!
Дмитревский подал.
Гаврила Романыч обсмотрел бумагу спереди и сзади, затем, шевеля крупными синеватыми губами, стал читать.
Вдруг листок, словно влекомый некой магнетической силой, выскользнул из рук Державина и, кружась, опустился на пол.
Поднимать его поэт и царедворец не стал. Иван Афанасьевич Дмитревский, повторив просьбу о разыскании могилы Фомина, откланялся.
Державин взгрустнул. Но все же, кряхтя, наклонился и перевод письма поднял. Там значилось:
Господин генеральный викарий!
На один из Ваших вопросов отвечаю незамедлительно и отвечаю (не опасаясь врагов наших) письменно.
Капельмейстер Ф. и в последние дни земной своей жизни оказался туп, глуп, безрассудно честен. И несговорчив к тому ж. Однако, вопреки намереньям франкмасонов (этих слуг дьявола, избранных им для борьбы с Обществом Иисуса), собиравшихся похитить тело капельмейстера для гнусных экспериментов, а возможно и для выставления похищенного (как они меж собой толковали) «музыкального костяка» на адских сборищах, — было тело Ф., по нашему приказу, схоронено в местах недоступных.
А вот души его указанным Вами научным способом — в виде электрических искр — уловить не удалось. При последнем вздохе капельмейстера присутствовал наш (обряженный могильщиком) человек, который донес: искр не было. Правда, был звуковой разряд, коего переданным Вами новейшим механическим прибором для записи голосов уловить не удалось.
Господин Генеральный викарий! Вряд ли я доживу до того дня, когда смогу звать вас, как это и было навсегда установлено, Генералом Ордена. Однако знайте: я всегда в это верил.
Слава Иисусу!
Клаудио Антонио Гальвани, професс Общества Иисуса дано в Санкт-Петербурге, 17 апреля 1800 года.
Мысли о жизни земной — и так несладкие — стали обильней, горше. Отбиваясь от тех мыслей, Гаврила Романыч вынул свежий бумажный лист, стал писать на нем неразборчивыми, длинными и явно не стихотворными строчками.
На бумаги Полицейской экспедиции, касающиеся смерти Фомина, и на письмо Антонио Гальвани лег первый исписанный Державиным в тот день, 25 апреля 1800 года, лист. На сей лист — лег другой, за ним третий...
К вечеру таковых листов набралась пухлая стопка.
На стопку листов драной кошкой улеглась черная ночь.
Ночь скрыла дела и бумаги державинские (а также и все иные) целиком. А потом бумаги стали попросту лишними: изменились обстоятельства жизни, изменилось и само время. Нежный бумажный хлам снесли в чулан, заперли на замок.
С теми бумагами заперли лет на двести недооцененную, недожитую, однако на весах вечности, как оказалось, бесценную жизнь.
Эпилог-1 Путешествие креста по водам
Отплясали в мазурках, отмаршировали строем, отшлепали лаптями крестьянскими два двенадцатилетия. Добежал почти до скончанья год 1824-й.
В том 1824-м, ноября седьмого дня, случилось в Санкт-Петербурге наводнение: неслыханное, небывалое! Наводнение трощило леса и корежило ограды, топило шнявы и ломало хворостинками мачты. Губило всё, губило всех, не разбирая чинов и званий! Уходили на дно, как те камни, люди и домашний скот, а подводные глыбы, обратно тому, выворачивало из глубин, кидало поперек улиц.
Не пощадило наводнение и мертвых. Вымывались из земли и, то поспешая и стукаясь друг о друга, то грозно-медленно — словно на Страшный суд — плыли по Неве, по Большой и по Малой Невке гробы.
Через три дня вода стала спадать, через пять — схлынула почти полностью. Явились на возвышенных местах зеваки и зрители: большей частью потерянно молчащие, иногда — разлагольствующие.
На шестой день, 14 ноября, на арочном бетанкуровском мосту через Малую Невку, соединявшем Каменный и Аптекарский острова, стояли двое господ в подбитых мехом плащах, в цилиндрах. Цилиндры были зацеплены резинками за подбородки, плащи подвязаны кушаками: ветер!
В руках у одного из господ поблескивала узкая и длинная зрительная трубка. Бог знает, что хотел он высмотреть во вспененных сорных волнах!
Нева, пять дней тому повернувшая было вспять, обратно своему же теченью, ныне текла, куда ей и следовало: в море. В море несло и остатние, уже не слишком крупные бревна, ветки, перевернутые вверх дном лари, оглобли, коромысла.
Внезапно, как по команде, вынесло пред очи гроб, за ним еще и еще один.
— Третьего дня со Смоленского кладбища, да и с других тож, покойников свежепогребенных в гробах по Неве несло...
— А эти, видать, из могил несвежих, давних. Гробы-то по-развалились. Или в водоворотах их все эти дни крутило. Теперь, вишь, сюда, в Малую Невку, приплыли…
Чуть позади двух гробов плыл нелепо зажатый досками, воздетый под углом, косо, грубый деревянный крест. Зрительная трубка тотчас на крест и была нацелена, надпись — прочитана. Не весьма грамотно, буквами разной высоты, на кресте было вырезано:
Раб Божiй Евсiгней …пат... Фоминъ Рожд… 1761, скончался 1800
— Не тот ли это Фомин, что за других оперы сочинял?
— Тот, как пить дать тот! — Один из господ, совсем еще молодой, едва ли и двадцатилетний, весело осклабился. — Скажи ты на милость! А лет ему было отпущено — тут говорящий беззвучно зашевелил толстенькими губами, — всего только 39... Ты, душа моя, Сашкины стишки «К Наталье», помнишь ли? Так там про лиц из оперы этого самого Фомина говорится:
Я желал бы Филимоном,
Под вечер, как всюду тень,
Взяв Анюты нежну руку,
Изъяснять любовну муку...
Та опера «Мельник — колдун, обманщик и сват» звалась! — Весело скалившийся (не вполне опрятный, толстощекий, с громадными черными ногтями) господин хотел было кричать стихами дальше. Однако налетевший шквал забил ему рот водной пылью, еще чем-то мелким, колким, беспрестанно носимым в воздухе.
Господин задохся. Стишки не сказались. Крест уносило мимо.
— Брось ты, Лев Сергеич, стишки! Не до них теперь, mon ange, — с особым значением нажал на последнее слово собеседник Льва. — Да и опера сия вовсе не Фомина сочинение: Соколовского и Аблесимова. А про Фомина того слыхал я нечто совсем иное. Будто еще при жизни крест на нем был кем-то поставлен! Даже и могила его сразу и навсегда была утеряна. А ведь о Фомине сам император Павел перед смертью справлялся. Для какогото прожекту, сказывают. Так ведь не нашли и следа! А все франкмасоны. Они с некоторых пор зуб на Павла Петровича точили, ну а уж заодно и Фомину досталось. Хотя, впрочем, кое-кто и на Орден Иисуса грешил. Однако те не могли, ни-ни…
Разговор про франкмасонов Льву Сергеичу был неприятен. Он перевел его на другое.
— Гляди ты, как забавно: не гроб под крестом, а корыто! И прибито как бы не намертво! Это к чему ж такая аллегория?
— Молчи, Лев Сергеич! — Собеседник Льва понизил голос до шепота. — Правду, стало быть, говорили! Украли гроб Фомина иллюминаты проклятые для нужд мерзких... А корыто для издевки пришпандорили: пускай, мол, крест без гроба поплавает, пускай по водам попутешествует. Ну да теперь — все одно… Скоро всему ненужному, всему, что в империи двести лет дурной плесенью нарастало, — конец!.. Так что плыви, крест, плыви! — словно забыв про оторопевшего Льва Сергеича и отвечая лишь собственным мыслям, стал, пряча зрительную трубку, бормотать предусмотрительный его спутник. — Плыви! Тебе одному предоставлена в нашем Отечестве свобода полная...
Страшное наводнение 1824 года кончалось великими печалями, но и скрытой радостью, тайной надеждой:
— Утром получил от Сашки... от Александр Сергеича... — поправился Лев, — письмо. В три дни, каким-то чудом доставили! Так ты, душа моя, не поверишь: он у себя в глуши над нами же и смеется!..
Толстовато-неряшливый, с черными ногтями и ленивыми мыслями, бездельник, но не шенапан, любящий опального брата, но и завидующий ему, Лев Сергеич хотел было огласить Сашкины слова про петербургский потоп полностью. Однако полностью не решился, прокричал, повышая голос вперекор ветру, лишь часть из тех слов:
— Сашка пишет: «Ничто проклятому Петербургу! voila une belle occasion a vos dames faire bide...» — что, конечно, звучит куда лучше, чем по-русски: вот случай нашим дамам под... под... — Тут Лев Сергеич натужно закашлялся и глянул искоса на собеседника.
Но тот Льва давно не слушал!