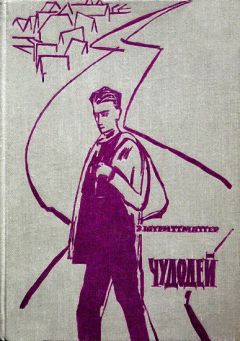— Заткнуть глотки!
Песня нарастала.
Станислаус стоял на краю тротуара, и все же он не был только наблюдателем; ведь на нем серый мундир немецкого солдата, и он чувствовал, как его сверлят презрительные взгляды. Он спрятался за дерево. В последних рядах тех, кого гнали вперед. Станислаус снова увидел влюбленную парочку с набережной. «Будьте добры друг к другу!» Но что это? За парочкой шел с обнаженным штыком бывший железнодорожный обходчик Август Богдан из Гурова у Ветшау. Станислаус ступил на мостовую.
— Богдан!
Богдан схватил молодого француза за ворот пиджака и остановился. Влюбленная парочка тоже остановилась. Станислаус побледнел. Он заговорил тихо, настойчиво, с присущей ему тайной силой, как раньше, когда производил опыты:
— Богдан, как ты ответишь за свой поступок?
Богдан упер штык в сапог и почесал икру.
— Скажу тебе, я ни за что не отвечаю, нам было приказано забрать всех из кино. Сказали, что там собрались виновники беспорядков.
Станислаус задрожал.
— Виновники беспорядков? Только не эти двое, нет. Я видел их у реки. Они целовались.
Влюбленные прислушивались, пытались понять. Богдан поднял свою винтовку и острием штыка коснулся тонкой шелковой блузки девушки.
Вот эту и вовсе не надо было забирать. Она увязалась за парнем. Что мне было делать? Как ее оторвешь от него? Служба есть служба.
Какой-то фельдфебель вернулся, набросился на Станислауса и заорал:
— Где твоя винтовка, сукин сын?
И фельдфебель, как сторожевая собака, снова побежал вперед. В Станислаусе закипала ярость. Сукин сын?! Разве он не человек? Разве вечно должен он позволять этим фельдфебелям оскорблять себя? Колонна несчастных завернула за угол. Богдан вскинул винтовку на плечо и собрался топать дальше.
— Ну а теперь ты дашь им возможность убежать, — сказал Станислаус и схватил Богдана за плечо. Богдан вырвался. — Ты дашь им возможность бежать, слышишь? Или ты будешь проклят на всю жизнь!
Суеверный Богдан увидел одержимость в глазах Станислауса, отступил и стал как вкопанный. Станислаус подошел к влюбленным, широко развел руки:
— Fuyez! Бегите!
Влюбленные посмотрели друг на друга.
— Fuyez!
Они побежали. Под спасительным покровом деревьев они взялись за руки, а толпа на тротуаре прикрыла их. Влюбленная парочка исчезла. Из толпы раздались выкрики — вначале робко, затем все громче:
— Bravo, ech, bravo!
Станислаус подтолкнул Богдана. Богдан испугался, словно его внезапно разбудили от глубокого сна.
— Ты меня заколдовал! Ты меня заклял! — кричал он.
Станислаус потащил его вперед. Они смешались с толпой на тротуаре.
14
Станислаус ищет новую цель в жизни, сомневается в полноценности философов и нисходит до искусства эстрады.
Над Сеной поднялся утренний туман. Покачивались верхушки деревьев. Жители необыкновенного города снова принимались делать то, что они должны были делать в их положении в этой нелепой войне. Они пытались поддерживать понемногу свои частные дела, обменивались понимающими взглядами, говорили намеками, любили и страдали. Внешне все это выглядело как терпеливое ожидание, а между тем под спудом шла работа: группу молодых французов ночью погрузили в вагоны для скота и вывезли из Парижа; не так уж много, чтобы их отсутствие могло отразиться на обычной картине города, но это были люди. То там, то тут кого-нибудь недоставало на важном совещании в потайном месте.
В казарме того эскадрона, который уже не был кавалерийским, того эскадрона, о котором теперь ни кто толком не знал, какой он и на что пригоден, раздался пронзительный свисток дежурного унтер-офицера, сигнал к побудке. Этот дребезжащий звук прервал разнообразные сны: дурные, бессодержательные сны о женщинах и товарах, пьяные кошмары, сны, полные слез, сны о победах и гирляндах из дубовых листьев.
В этот час второй повар уже стоял на кухне. Утренний кофе был сварен. Единственный человек, пришедший наполнить свой котелок немецким ячменным пойлом, был Отто Роллинг из прежней комнаты № 18. Около носа у него залегли насмешливые морщинки.
— Я слышал, ты заколдовал Богдана?
Станислаус испугался.
— Он об этом говорил?
— Я запретил ему говорить. Ты его загипнотизировал, так, что ли?
Станислаус смущенно помешивал половником в черном напитке.
— Я дал ему двадцать марок, чтобы он молчал.
Роллинг схватил половник и заставил Станислауса поднять глаза.
— По-твоему, те двое французов стоят этого?
— Они любили друг друга. Они не совершили ничего дурного.
Роллинг вдруг помрачнел:
— А если бы они сделали что-то дурное?
Станислаус подбросил угля в огонь. Когда он снова поднял взгляд, Роллинг стоял на том же месте.
— А?
Станислаус захлопнул дверцу плиты.
— Один из фельдфебелей обозвал меня сукиным сыном. Ненавижу фельдфебелей. Они совратили мою девушку. Они все время мучают и мучают меня…
Роллинг поднял руку. Он поднес свой котелок ко рту, притворился, будто пьет, и сказал в алюминиевую посудину:
— Каждый делает, что может, но нужно думать, что делаешь. Твоя ненависть должна быть шире!
Он два-три раза глотнул черного кофе, отер губы, перевел дыхание и вышел.
Станислаус шагал взад и вперед по полутемной кухне. Мельница его мыслей снова заработала, она свистела, гудела и выбрасывала муку грубого помола: все его надежды, которые он вынашивал последние годы, погибли, как перелетные птицы, крылья которых замерзли на жестоком зимнем ветру. Он больше ничего не ждал для себя, но в прошедший вечер он, несмотря на боязнь предательства со стороны Богдана, убедился, что тот, кто уже ничего не ждет для себя, тоже может посеять немного счастья среди людей: он помог незнакомой влюбленной парочке в ее скромном счастье и с удовлетворением думал о той поре своей жизни, когда он чувствовал потребность ограничить своей тайной силой людские злодеяния. Разве это не может стать целью жизни для человека, которому всегда и во всем не везло?
Так, значит, обстояли дела в Париже, веселом, остроумном городе, современном городе со старинными домами, современнейшем городе, в переулках и уголках которого сохранилось так много уюта и романтики, здания и сооружения которого вобрали в себя прошлое. Там были переулки, в которых еще звучал дробный топот козочки Эсмеральды, и были стены, еще хранившие следы пуль, выпущенных по мужественным коммунарам. И вот теперь на Париж налетела стая коршунов, немецких солдат, и они утверждают, что охраняют в этом городе на Сене свое стервячье гнездо, находящееся далеко-далеко отсюда, в городе под названием Берлин.
Здесь в казармах было очень много немецких солдат, никогда не видевших Берлина, так как у них никогда не хватало ни времени, ни денег, чтобы поехать туда; но теперь они видели Париж, а великий фюрер немецкого народа оплачивал им это путешествие. Они посылали домой посылки, целые ящики, сундуки — подкорм для своего выводка в гнезде стервятника; некоторые из них завели здесь любовные связи, более крепкие, чем дома. Они забывали о войне.
Но война их не забывала. Великий фюрер немецкого народа и хранившее его провидение сочли нужным напасть на Россию, чтобы, как было сказано, разбить ее прежде, чем она станет врагом.
В канцеляриях снова затрещали громкоговорители о великом деянии, начавшемся двадцать четыре часа назад. Офицеры снова произносили перед рядовым составом речи и требовали восторга по поводу великого национального дела. «Все сдаются, когда мы начинаем наступать: Польша — восемнадцать дней, Франция — прогулка с незначительными потерями, понятно!» И те, кто уже не мог нахватать в Париже достаточно посылок и ящиков, и те, кто в старомодной чванливости считал своим призванием господствовать в Европе, — все они носились с взволнованными лицами, стараясь превзойти друг друга в восхвалении мудрого, ниспосланного провидением руководства.
Но были и другие, более слабые, более тихие голоса, шепотки под толстыми казенными одеялами, ночью, когда луна заглядывала в комнаты, освещая заплесневелый мир; бормотанье в уборных, где нельзя установить, чем вызваны проклятья.
Когда это известие дошло до обоих поваров в подвале, Вилли Хартшлаг плюхнул полуготовую свиную голову в котел, пошел в угол, где хранились припасы, порылся среди бутылок, открыл одну из них, поднес ко рту и влил в себя прозрачное вино. Станислаус резал лук и, моргая слезящимися глазами зарешеченному подвальному окну, произнес:
— Боже милостивый!
Вилли Хартшлаг пододвинул ему бутылку. Станислаус не стал пить. Хартшлаг хлебнул еще, прополоскал вином горло, отставил пустую бутылку и сказал пьяным голосом:
— Париж кончился. А теперь вперед на толстых русских баб, бр-р-р!