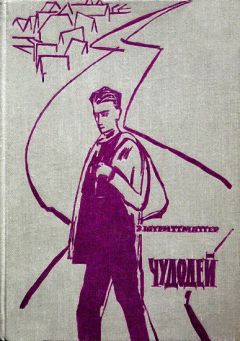То была уже не первая бутылка, которой Станислаус пытался слегка подштопать свои рваные надежды. Винный запах веселил его, как тот эльф, который много лет назад отыскивал его в каморке, когда Станислаус работал булочником. После третьего стакана вина второй ротный повар нашел, что все-таки можно управиться со смертельно скучающим Станислаусом Бюднером. Он ругал этого Бюднера, эту дурацкую башку, за то, что тот послушался уговоров вахмистра Дуфте. Станислаус обвинял себя даже в том, что выторговал это безопасное местечко в обмен на то, чтобы ребенок вахмистра жил в семье на полном довольствии. Наконец второй повар плюнул на собственную тень и заговорил с нею, называя ее «господин Бюднер». Этого оплеванного повара он оставил сидеть в углу на кухне, хлебнул еще вина и начал писать письма. От скуки он писал родителям. Писал племянницам, которые, судя по фотографии, уже выглядят барышнями. Он послал своей сестре Эльзбет денег. Это он делал все годы подряд, даже когда самоучитель «система Ментора» отбирал у него почти весь недельный заработок. Ему не надо больше утаивать свой денежный перевод. Солдаты посылали родным деньги и дорогие вещи, это стало обычным. Лилиан в своем письме тоже без конца жужжала: нельзя ли купить в Париже шелковые нижние юбки без талона? У нас больше нет хороших духов, но Париж — он, наверное, благоухает, как тысяча и одна ночь?
Станислаус не отвечал на эти письма. Он и теперь сунул их в засаленную папку. Он решил открыть для себя Париж. Что уготовил ему этот город, о котором все мечтают, с которым все обращаются, как с легко доступной уличной женщиной?
На берегу Сены высились деревья, напоминая огромные зонты от солнца. Станислаус топал под этими зонтами в начищенных до блеска сапогах куда-то вперед. Прогулка не из приятных: офицеры, начальники всех чинов и сортов, звеня шпорами, слонялись повсюду. Станислаус вовсе не был настроен непрерывно брать под козырек, переходить на строевой шаг и есть глазами начальство, иными словами, проделывать все то, что у них называлось «приветствовать». Высшие чины были задиристы, как петухи. Им хотелось быть центром внимания и уважения, черт подери, хотелось что-то представлять собой здесь, в Париже, хотелось производить впечатление на определенных дам, которые тоже появлялись на прогулках. Господа начальники искали любви, черт возьми, хотели показать этим бездетным французам, будь они прокляты, как надо делать детей.
Станислаус ушел в сторону от этой суматохи птичьего двора. Он осматривал лотки с книгами у парапета набережной. Букинисты походили на продавцов птиц, их товар тоже был пестрый. Пожелтевшие гравюры на меди, книжечки в цветных обложках, солидные, увесистые тома в кожаных переплетах, затвердевшие полотняные обложки, отливающая зеленью, будто подернутая плесенью свиная кожа. Тощие человечки у деревянных лотков, казалось, зябли, несмотря на майское солнце. Станислаус не заметил, чтобы эти ежившиеся торговцы что-нибудь продавали. Они выгоняли маленькое стадо своих книг на воздух, на солнце и в ожидании покупателей стояли рядом, как пастухи, рассматривали нависшее над Парижем небо и время от времени брали в руки одну из книг-овечек, чтобы погладить ее.
Станислаус пытался прочесть заглавия книг. Он вспоминал, как во сне, несколько французских слов и думал о своем незаконченном образовании. Время до знакомства с Лилиан, когда он сидел в своей каморке и учился, — то время казалось ему блаженным, как дуновение райского ветерка.
Все миновало. Теперь он стоял здесь и едва мог разобрать, что сулят ему заголовки этих книг. Он шел по чужой земле, словно полуслепой. И все во имя любви, которая того не стоила. Почему? Откуда такие мысли? Он был почти благодарен, когда какой-то фельдфебель набросился на него и закричал:
— Я из тебя выбью эту парижскую расхлябанность!
Станислаусу пришлось три раза его приветствовать, три раза пройти мимо фельдфебеля, поворачиваясь, как марионетка в ярмарочном балагане. Дамы на бульваре скромно захихикали; смеялись ли они над ним или над застывшим фельдфебелем, Станислаус не знал.
Значит, и здесь, в большом чужом городе, фельдфебели «окопались» и важничают, отравляют ему жизнь, как это было дома, в маленьком немецком городишке.
Станислаус покинул набережную и спустился по каменным ступеням к реке. Сена текла, грязная и мутная, как все реки больших городов. Одетые камнем берега, лодки на маслянистой воде, маленькие пароходики, влажные испарения от воды. Под сенью кустов стояли скамейки. На свисающих ветвях прибрежных ив, словно плоды на заколдованных деревьях, висели рваные носки, серо-грязные рубахи и дырявые штаны. Здесь ютились бедняки этого радостного города. Полураздетые, голые, они ждали, пока их лохмотья просохнут. Какой-то старик крошил сухие корки солдатского хлеба: пища со свалки, объедки с немецкого стола. Горючее на один день жизни старого человека. Худая растрепанная женщина смотрела безумными глазами на свою вставную челюсть. Челюсть лежала на краю скамейки. Женщина, видимо, вспоминала то время, когда эти искусственные зубы еще были ей нужны. Станислаус хотел незаметно пройти мимо. Немецкие солдатские сапоги выдали его. Тень от его фигуры упала на скамейку старухи, на ее бесполезную челюсть. Женщина умоляюще протянула ему протез. Она постучала высохшим указательным пальцем по блестящему металлическому зубу:
— Золото покупайть, господин офисир?
Станислаус зацепился о собственный каблук, поднял с земли клочок бумаги, скомкал его, бросил в воду, следя взглядом за плывущим шариком. Он почувствовал себя смущенным, но его отвлекли два молодых существа, которые шли впереди него, обнявшись. Девушка целовала парня. Она тыкалась мордочкой, как ласковая козочка, в ухо парню. Парочка, казалось, не обращала внимания на скрип сапогов немецкого солдата.
Когда влюбленные останавливались, чтобы приласкать друг друга, останавливался и Станислаус. Нет, он не хотел им мешать. Любите друг друга, если вам это суждено! Будьте добры друг к другу! У него было время подумать над тем, что произошло бы, крикни он влюбленным на своем языке: будьте добры друг к другу! Он понял, что в этой чужой стране он не только полуслепой, но к тому же и немой. Он проклинал свою судьбу.
Солнце зашло в дымке испарений. Деревья на берегу Сены укутались в сумерки. Наступила насыщенная теплом ночь. Люди жаждали. Каждый жаждал чего-то своего.
У Нотр-Дам Станислаус снова поднялся на набережную. Он машинально переставлял сапоги, сперва один, потом другой, шел и шел, этот Голем,[17] тяжело ступающий по Парижу. Маленькие и большие, печальные и тихо улыбающиеся, спешащие и слоняющиеся люди проходили мимо. Среди них то и дело мелькали серые мундиры с бо́льшим или меньшим количеством серебра на рукавах, воротниках и плечах: немцы, соседи Станислауса по родине. Он забывал, что перед ними надо застыть, скосить глаза, приветствовать их. Что-то внутри его бормотало, как в говорящем автомате: «Оставьте меня, я зашел в тупик, мне все здесь чуждо».
Людское облако плыло вверх по улице. Спешащие и слоняющиеся, печальные и тихо улыбающиеся останавливались на тротуарах. Навстречу приближалось еще одно людское облако, сопровождаемое грозными окриками и скабрезной руганью: юноши, среди которых то тут, то там мелькали девушки, — все шли, эскортируемые серыми немецкими солдатами.
— Ну-ка живей! Здесь не привал для лодырей. Parti, parti![18]
Трамп-трамп-трамп! Молодые люди с вопрошающими лицами, с испуганными, выжидающими, возмущенными взглядами, с ищущими поддержки руками, со сжатыми кулаками. Трамп-трамп-трамп!
— Эй, собаки! Marchez, marchez!
Маленький старичок с седой бородкой клинышком, качаясь, сошел с тротуара, отделился от толпы любопытных и направился к немецкому солдату. Солдат сорвал винтовку с плеча. Обнаженный штык, как резкий, предупреждающий об опасности свисток, уперся в пуговицу на пиджаке человека. Старик размахивал руками, указывая на юношу в людском облаке. Юноша устало кивнул.
— Eda, mon fils, mon fils![19]
— Прочь с дороги, старый волк, не понимайт!
Старик получил пинок, пошатнулся, присел на край тротуара и закрыл лицо руками. Солдат пошел вперед, вскинув винтовку на плечо. Старик посидел так лишь несколько секунд, затем вскочил, кинулся бежать за людским облаком, пробился через конвой к сыну, схватил его за руку и зашагал рядом, подбодряя молодых людей взглядом своих маленьких серых глаз. Впереди в людском облаке возникла песня. Конвойные заорали:
— Заткнуть глотки!
Песня нарастала.
Станислаус стоял на краю тротуара, и все же он не был только наблюдателем; ведь на нем серый мундир немецкого солдата, и он чувствовал, как его сверлят презрительные взгляды. Он спрятался за дерево. В последних рядах тех, кого гнали вперед. Станислаус снова увидел влюбленную парочку с набережной. «Будьте добры друг к другу!» Но что это? За парочкой шел с обнаженным штыком бывший железнодорожный обходчик Август Богдан из Гурова у Ветшау. Станислаус ступил на мостовую.