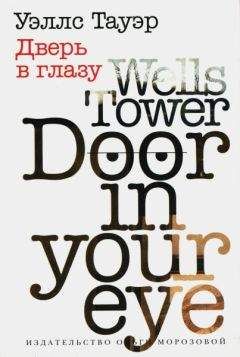Король Ричард, свергнутый и заключенный в замок Помфрет, говорит: «Живя в тюрьме, я часто размышляю, как мне ее вселенной уподобить»[138].
О, что за отклик пробудила в нас обоих эта строчка. Между нами… пробежало что-то вроде электрической искры, ибо разве не было у нас повода поминутно размышлять о том же самом?
С того дня меня часто посещала мысль: а не бежать ли мне с Пятиубивцем с Зеркального озера? Возможно ли это? Но я молчала, и Пятиубивец, зная, о чем я думаю, чего желаю, советовал сохранять терпение. И все же мы сделались молчаливыми союзниками – мы двое против Сладкой Мари, нашей тюремщицы, нашего общего коварного противника.
Терпение? Может, у Пятиубивца оно оставалось, но мой запас был исчерпан. Сладкая Мари ничего не узнала о Селии. А если узнала, то со мной не поделилась. Не захотела. И вот как-то хмурым утром я облачилась в свои штаны из оленьей шкуры и синюю блузу, уже изрядно поношенную, и отправилась к дверям ведьмы.
Да, я долго набиралась мужества, но теперь я подбадривала себя, неслышно повторяя: «Как она смеет, как она смеет, как смеет она насильно меня удерживать?» Дошло до того, что я стала прикидывать, смогу ли, если до того дойдет, потягаться с ней в колдовской силе. Да, я получила силу от мертвецов, но достаточно ли? О, я готова была рискнуть… То есть я бы хотела, а может, и рискнула бы, если б не хищные кошки, против которых это средство было бессильно.
И все же я поспешила к ее двери, которая всегда бывала заперта на замок, когда Сладкая Мари уходила из дома, или на невидимый запор, когда она находилась внутри. В тот день, на мою беду, дверь стояла приоткрытой; мне оставалось только толкнуть ее…
Но стойте, скажу прежде, что Сладкая Мари часто выбирала себе в качестве ложа какое-нибудь из своих седел, и сон там был не сном, а скорее трансом, в который она себя погружала; в этом состоянии полусна-полубодрствования она могла провисеть полдня подряд, не теряя способности наблюдать… И хотя она предпочитала седла кровати или тюфяку и прочим ее странностям не было конца, я все же рассчитывала обнаружить в домике ведьмы ту же странную комбинацию европейских и местных изделий, что и в ее «лекарском» вигваме – там, в дальнем углу, под тюлевой завесой в букашках, мне было отведено спальное место.
Я говорю о таких изысканных вещицах, как коробка из вязового капа с набором серебряных столовых приборов, украшенных филигранью, – никому не нужным, потому что ели мы все равно руками. Или о переносном туалетном приборе, который я использовала по назначению: я проводила перед ним при свечах бесчисленные часы, так и эдак зачесывая волосы – свободно или в пучок, утыканный шпильками из слоновой кости, – прежде чем отправиться на свой тюфяк, набитый конским волосом; этот тюфяк, а также стул без подушки, хромой столик и крохотное зеркальце составляли все убранство моих покоев… Да, я думала увидеть в жилище Сладкой Мари что-то похожее. Но в квадратном помещении из пиленых бревен, так плотно пригнанных, я обнаружила одно-единственное седло и больше ничего; это было не столько жилье, сколько чулан.
…В то утро замок был снят с петель и висел на колышке. От двери падала треугольная тень, железные петли скрипели, потому что крепчал ветер, предвещавший дождь. Пальмы колыхались со свистом и пыхтеньем, как будто в кронах работал паровой двигатель. Когда я подошла к дому (его построили низко над землей, не боясь потопа), с неба упали первые капли дождя. Когда трясущейся рукой потянулась постучать, дверь слегка качнулась внутрь, словно дом сделал вдох. Я не постучалась, а приложила к доске ладонь и толкнула… нет, не толкнула. Из-под припустившего дождя я шагнула в глубокую тень и совершенно неподвижный воздух. Стоя там и ничего еще не видя, я уловила слухом дыхание, слишком тяжелое для Сладкой Мари. Слишком тяжелое для человеческого существа. Оно близилось, близилось, и вот в лицо мне пахнуло влажным теплом и вонючим, кровавым дыханием зверя.
Коакучи, конечно.
Я отшатнулась, кошка прыгнула, притиснув меня к двери. Это разбудило Сладкую Мари, которая дремала в седле.
Она отозвала кошку, но не особенно торопливо.
Передние лапы вонзились мне в плечи. (У меня остались шрамы.) Ее голова, морда, пасть сунулась мне в самое лицо, и я, как могла, отвернулась, но Сладкая Мари объяснила, что это была ошибка:
– Никогда, никогда не подставляй крупной кошке шею, сестра. Ее гладкая поверхность, потная, с пульсирующей жилкой… сопротивляться этому… не требуй слишком многого от моей Коакучи.
В тот же миг кошка раскрыла челюсти и наклонила голову, готовясь напасть (ошибиться было невозможно), и…
Несколькими словами на мускоги Сладкая Мари заставила кошку отступить.
Никогда в жизни я не испытывала такого страха.
Что же случилось дальше… это тема слишком болезненная для гордости, слишком щекотливая. И все же я продолжу.
Я обделалась. Чего и хотелось кошке.
Хищно выпущенные когти посверкивали в тени серебром. В мощном урчании слышалась нота страсти, самая жуткая, самая зловещая.
– Удовлетвори ее, – сказала Сладкая Мари, словно я знала как.
Что за слова вырвались у меня в панике, не помню; страшно не это, страшно то, что затем приказала ведьма:
– Сними их. А то она их сорвет вместе с кожей.
Да, мне пришлось раздеться, обнажиться перед зверем.
– А теперь за дело, – распорядилась Сладкая Мари. – Давай!
Она по-прежнему сидела на седле, свернутые волосы лежали на утоптанном земляном полу. Подняв подбородок, она готовилась наблюдать самое странное из странных зрелищ; я стояла голая от талии вниз, штаны из оленьей кожи были спущены на сапоги. И кошка пустила в ход свой теплый шершавый язык. Принялась за чистку экскрементов. Улизывала мне… меня до тех пор, пока не стало невмоготу терпеть и я не…
Последнее, что я помню, это воркующий голос Сладкой Мари, обращавшейся к кошке:
– Сладкая Мари должна была погадить для своей Коакучи, да? Оставила кисоньку без ведьмина дерьма?.. Кисонька прощает Сладкую Мари?
Услышав ответный рев кошки, я обмерла и больше ничего не помню.
Очнулась я неохотно. Очнулась, жалея, что не умерла.
Сладкая Мари сидела при свече за работой и что-то мурлыкала себе под нос. Несмотря на теплую погоду, на ней была куртка из парусины, которую она обшила перьями благоупотребленных фламинго. Поблизости высился стебель тростника, вбитый в земляной пол; крюк на его конце Сладкая Мари нагрузила своими волосами, и стебель сгибался под их тяжестью. Снаружи лил дождь. Гремел гром. Куда делась кошка? Где она?
Пантера лежала рядом со мной, слишком близко, прижимаясь всем телом. Я, натягивая штаны, поспешно отодвинулась от нее – от ее жара, гулкого сердцебиения, фекальной вони из пасти – к дальней стене. Кожа была липкой от кошачьего языка и скользкой от пота. С перепугу я забыла о том, что вызвало бы еще больший стыд, и все же, будь мне известен способ сбросить с себя кожу, я бы им воспользовалась.
– Коакучи теперь поспит, – сказала Сладкая Мари. – Она наелась и удовлетворена выше головы. Шшш! Послушай… Слушай, как она счастлива.
Я не слышала ничего, кроме кошачьего храпа.
– Сладкой Мари удивительно: неужели ты ни сном ни духом не ведаешь о том, как ведут себя духи-хранители, вселившиеся в животных? – Довольная своим каламбуром, ведьма засмеялась и добавила еще один: – Конечно, на кошачий вкус менструация вкуснее, но у Сладкой Мари уже давным-давно нет месячных. Приходится Коакучи обходиться любым ведьминым продуктом, какой есть.
Я молчала.
– Бывает, Сладкая Мари и покромсает себя ради Коакучи.
Тут она схватила ожерелье из змеиного черепа и принялась скрести змеиными зубами свое испещренное шрамами предплечье. Каково же мне было смотреть, как она упивалась болью; как боль сменилась наслаждением, когда Сладкая Мари подползла по земляному полу к сонной кошке (на усах у нее оставались следы дерьма) и поднесла к ее пасти свою кровавую плоть – пусть сосет.
– Счастье, что вторая сестра поблизости, – продолжала Сладкая Мари. – Ведь со Сладкой Мари больше взять нечего, а они так выпрашивают, так жалобно мяукают, лакают все, что только течет. Сладкая Мари выжидала, присматривалась, но крови у тебя не такие обильные, как у целой женщины. Зато ты какаешь, и ведьминых отходов бывало в достатке, на радость пантерам.
Тут я поняла, что происходило дальше с ведром, за которым каждое утро являлся в вигвам безухий марон.
В ту минуту я ненавидела Сладкую Мари, как никогда в жизни.
Но нет, это неверно. Я возненавидела ее еще больше, после того как попросилась на свободу, а ведьма вместо ответа рассмеялась и вернулась к своим занятиям. Она сидела перед вделанным в пол глиняным горшком. Бесцветный, высотой примерно в фут, он был помещен в центр каменной чаши, фута два в окружности. В кувшине булькала и пузырилась, переливаясь через край, какая-то жидкость. Я приняла бы ее за воду, но она была явно тяжелее и слишком медлительно капала в чашу. В эту жидкость Сладкая Мари окунала янтарно-желтые пузырьки, те самые, в которых раздавала напиток. Да, эликсир, это он.