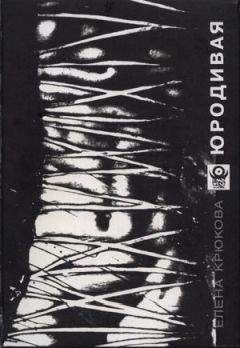Здравствуй, Звезда, на веки веков, я тебя узнала, да поздно. Да и это теперь все равно.
— Владычица!..
Они бились лбами о камни. Они разбивали себе лбы в кровь.
Палач, перевязывай. Много у нас работы нынче. А что мне с этими делать? Как бьются и трепещут они! Словно бы и не мужчины вовсе. Я над ними стою, баба. Думаю: вот оно, Распятие. Распятие страха. Распятие ужаса. Распятие боли. Распятие обмана. Распятие ненависти. Вы все распяты на кресте ненависти. И я бы должна ненавидеть вас. Но стоит мне возненавидеть вас, и мир полетит к чертям. Рухнет в преисподнюю. Так — она еще вроде сказки, преисподняя. Вроде детской пугачки. Спи, дитя, усни, не то придет серенький волчок, схватит за бочок и утащит во лесок. В преисподнюю. Оттуда обратно хода нет. Упав туда, в преисподнюю, мир там и будет пребывать. Мир станет Нижним Миром. Верхнего уже не будет никогда.
Я подошла к кучке дрожащих солдат, обняла их за плечи.
— Надменный, — попросила я тихо. — Ты можешь найти мне здесь, в этом ужасе, фонарь?
— Какой фонарь? — Голос его срывался.
— Такой. Обычный фонарь. Карманный. Или сторожевой. Или с прожектором. Или керосиновый. Любой. Ты же запасливый, Надменный. Ты же, когда собирался в бой, много добра с собой прихватил, рассовал по карманам и котомкам. Ну!
Он послушно наклонился и поковырялся в походном вещмешке.
— Вот, — сказал он. Другие томительно, молча ждали. — Нашел.
Он протянул мне старый фонарь. Зачем он взял его в иную страну? На великую казнь? Я не знала. Я приняла фонарь из рук Надменного, поднесла его к лицу и дунула внутрь, в стеклянную дыню. Зажегся огонь. Затеплился. Разгорелся. Горел ярко, медово-желтым, густым светом. Я высоко подняла фонарь в холодной ночи чужого плато, меж возведенных при дороге крестов, на которых распяли то ли разбойников, то ли пророков, то ли просто несчастных людей. Камни озарились красным, оранжевым, драгоценным золотом. Выхватилось из тьмы мое лицо с сурово сведенными бровями. Пламя плясало на лицах дрожащих человечьих тварей, обезьянок в защитных гимнастерках и железных масках.
— Снимите маски, — сказала я резко. — Они вам больше не понадобятся.
Они покорно сдернули маски. Я во второй раз увидела их беззащитные, детские лица.
— Дети, — сказала я и заплакала, и фонарь превратил в алмазы мои слезы. — Дети, зачем вы играли в такую плохую игру?
Они молчали и дрожали. Они понимали: моя игра только начинается.
Я, с фонарем, обошла их кругом. Один круг, второй, третий. Обходя, я говорила:
— Ищу человека. И не нахожу. Днем с огнем, ночью с фонарем, с горящей свечой, с пылающей лучиной ищу человека. Если огня у меня нет — мои глаза горят. Ищу человека и не нахожу его. Почему одних зверей я вижу вокруг себя? Почему вы лаете и воете, почему загрызаете ближнего совего, человека своего, вместо речи людской и любви людской? Кто вами владеет? Зверь?!
Они молчали. Пламя металось по их лицам.
— Я знаю, где он живет. Звезда поплатился глазами за возможность увидеть его. На человечьем языке ему нет имени. Зачем вы служите ему?!
Они молчали.
Я закричала:
— Ищу человека! Человек, где ты! Огонь, освети мне его лицо!
Они продолжали молчать.
Я подняла фонарь выше.
— Вы не успели вырыть могилу, — сказала я жестко. — Ройте. Ройте!
Они качнулись, всей живой кучей. Они хотели прокричать мне: «Кому?!»
Лопат у них не было. Они стали рыть каменистую голую землю всем острым, что нашлось у них — ножами, штыками, пилками, зажигалками, палками, обломками досок, дулами револьверов. Звезда встал на колени и рыл руками. Пальцами. Они все встали на колени и рыли землю пальцами. Рвали ее когтями. На куски.
— Хорошо, — сказала я, когда яма получилась глубокая и широкая. — Бросайте туда все!
— Что — все?.. — прошелестел Горбун. Он был бледнее мела. Его сивые волосенки встали дыбом.
— Все, — твердо произнесла я. — Оружие. Автоматы. Наганы. Кольты. Ножи. Маски. Портупеи. Одежду. Раздевайтесь!
Они глядели на меня как пришибленные.
— Раздевайтесь! — повторила я ожесточенно. — Кидайте в яму все, что на вас и с вами!
Они стали разоблачаться. Маску кинул в могилу Надменный. Она зазвенела о камень. Потом Сухорукий. Расстегивая пуговицы на штанах, он зарыдал. Вот швырнул автомат Турухтан. Один за другим стал бросать в яму ножи Коромысло. Плечи у них у всех тряслись. Они немедленно продрогли на холодном ветру. Вот они были уже все голые, такие, какими явились на свет.
Последним бросил оружие в яму Горбун. Он швырнул свой автомат наотмашь. Звон железа о железо оглушил.
Они стояли голяком, замерев, дрожа на ветру, и думали, что я сейчас велю им прыгнуть в яму вслед за оружием.
Они были готовы туда прыгнуть. Их лица сияли покорностью. Губы вздрагивали в жестоком тике предсмертного безмолвия.
— Делайте свечи! — крикнула я.
Они не поняли. Переглянулись. Звезда уставил на меня черно-багровые дыры бывших глаз и протянул ко мне руки, перепачканные землей и расцарапанные камнями.
— Какие свечи, Владычица?.. Из чего делать?..
— Из всего, что отыщете, — ответила я непреклонно.
И я смотрела, я видела, как они судорожно и растерянно оглядываются вокруг себя, шарят глазами, водят по воздуху руками и царапают землю и камни, раскидывают осколки, ложатся на животы и всматриваются в изгибы почвы, как находят — кто ветку, кто отлом доски распятия, кто кусок кожи от ботинка, кто смолу, коей был полит приготовленный для казни хворост, кто вытаскивает куски парафина из рюкзаков — верно, для того, чтобы греть горячим парафином суставы и переломы, взяты были они в дорогу, — и начинают их вертеть в руках, не зная, что делать с ними, не зная, свечи ли это, и почему свечи, и для чего. И я сказал им сурово:
— Втыкайте свечи в землю! В землю!
Они стали выткать дрожащими руками свечи в землю, меж камней, по ободу вырытой ямы. Отовсюду слышались стоны снятых со крестов. Я поднесла к лицам людей, бывших в масках, фонарь.
— Берите огня! Зажигайте!
Они, дрожа губами, подносили к фонарю сухие ветки, опускали внутрь стеклянного бочонка, зажигали горящими ветками самодельные свечи, и скоро вся земля затеплилась, замерцала теплыми, печальными, слезными огнями, и люди без моего напоминания, без просьбы встали на колени.
Они сами поняли, что они должны делать. Они забормотали, и голоса их, бьющиеся на ветру и гудящие, сливались в один, и это было покаяние, и это была молитва. Их первая в жизни молитва. Они молились неумело и трогательно, нелепо и неуклюже. Я не знала, что они шептали. У каждого были свои, единственные слова. И они спешили их выбормотать. Они спешили ими насладиться напоследок, как последним вином, как последней женщиной, как последней пляской на пиру. Они втягивали молитву в себя, как поцелуй, и выпускали ее наружу, на свободу, как бедную птицу из клетки.
Они любили свою молитву так, как не любили вживе ни одного человека в целом свете. Они клялись в этой последней молитве отныне всех любить и никого не обижать и не казнить; они просили долгих лет жизни для себя и бесконечных лет жизни — для земли, их порлдившей, в которую они должны будут сойти.
И я верила их молитве, потому что перед могилой, в мерцании тысячи свечей, воткнутых в землю и меж камней, они наверняка были искренни перед Богом.
— Все, — сказала я, когда ропот и гомон молитвы утих. — Вы родились. Вы новорожденные. Вы беспомощные. Вы кричите и плачете. Вы не знаете еще ни единого человечьего слова. Вас надо перепеленать. Не шевелитесь. Не двигайтесь с места, родные мои. Дети мои.
И я склонилась, отрезала ножом, единственным, не сброшенным в яму, постромки парашютов, лежащих около вещмешков, и поволокла за собою переливающуюся перламутром и Солнцем шелковую ткань, огромные простроченные отрезы, купола и лепестки, гигантские увядшие розы, и обертывала каждого, голого, плачущего и дрожащего, в сияющие атласы, в серебристые виссоны, в льющийся медом и мирром дамасский шелк. И прижимала я их головы к своей груди, и плакали они, младенцы, и я совала им в рот сосок, и каждому давала ощутить материнское тепло свое, и каждому, изголодавшемуся, давала испить полную невылитого молока грудь свою. И плакали младенцы, и кричали, и дышали нежно и благодарно, и обхватывали меня, мать, руками своими, и шептали невнятно агуканья и лелеканья свои, и умирали от счастья родиться, жить и любить, и нежно гладила их по головам мать, и улыбалась им, и напевала каждому колыбельную его, и каждого целовала в колючие исхудалые щеки его, и каждого укрывала от мороза и хлада, от ярости ветра полночного, и все крепче, все нестерпимей обхватывали меня младенцы мои, и беззвучно, безмолвно, на младенческом своем, непонятном языке клялись они мне, матери своей, что будут любить мать свою и отца своего, что будут любить ближнего своего и дальнего своего, и радость будут любить, и страдание, и камень голый и нищий будут любить в пустыне, и все живое будут любить — и большого слона и маленькую жалкую кошку, и мышку, что шуршит под полом по ночам, и дикого льва, и медведя с желтыми клыками, и никогда не будут убивать ничто живое и никого из живущего, и я, целуя их в темечки, в щечки и глазки, доподлинно знала, что сдержат они свое слово, не будут убивать, а будут жить и любить, — и сердце мое переполнялось гордостью за своих детей, за моих детей, рожденных мною в поздний час, в каменистой пустыне, в свете сиротских свечей, в виду обгорелых крестов и стонущих людей с пробитыми ладонями и ступнями; и как же любила я их в этот час ночи, всех рожденных детей моих, всех несмышленых и неразумных чад моих, отныне наследующих меня и кровь мою, несущих с сей поры в содрогающийся от ненависти мир любовь и боль мою, и смешивались, лицом к лицу, наши с детьми слезы, и смешивались, кровь с кровью, наши крови, и эти гигантские роды были почище взаправдашних родов одиночных, и поражалась я, как это я, одна, смогла выносить в утробе тех, кто понесет вперед и дальше избитую, изгаженную, поруганную и сияющую любовь мою.