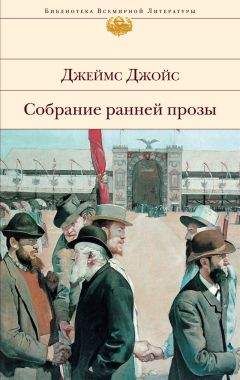Обогнув стоявших, Мэри-Джейн быстро направилась к лестнице, но едва она сделала несколько шагов, пение смолкло и инструмент резко захлопнули.
— Какая жалость! — огорчилась она. — Он что, спускается, Грета?
Габриэл услышал утвердительный ответ жены и увидел, что она спускается к ним. Наверху лестницы показались Бартелл Д’Арси и мисс О’Каллахан.
— О, мистер Д’Арси, — воскликнула Мэри-Джейн, — как вам не совестно так внезапно оборвать, когда мы все тут в восторге слушаем.
— Я его упрашивала весь вечер, — сказала мисс О’Каллахан, — и миссис Конрой упрашивала, но он сказал нам, что он страшно простужен и петь не может.
— Знаете, мистер Д’Арси, — сказала тетушка Кейт, — это вы нам рассказываете сказки.
— Не слышите что ли, я каркаю как ворона? — довольно грубо парировал мистер Д’Арси.
Он прошел быстро в каморку и стал одеваться. Задетые неожиданной резкостью, присутствующие не нашлись, что сказать. Тетушка Кейт наморщила лоб и сделала всем знак не продолжать тему. Мистер Д’Арси стоял, хмурясь и тщательно укутывая шею.
— Сейчас такая погода, — сказала тетушка Джулия после паузы.
— Да-да, — подхватила тетушка Кейт, — совершенно у всех простуда.
— Говорят, — присоединилась и Мэри-Джейн, — такого снега не было тридцать лет. Я прочла в утренней газете, что по всей Ирландии снегопад.
— Я люблю, как выглядит снег, — сказала тетушка Джулия грустным голосом.
— Да, и я тоже, — сказала мисс О’Каллахан. — По-моему, если нет снега, то Рождество какое-то ненастоящее.
— А вот бедный мистер Д’Арси не любит снега, — с улыбкой сказала тетушка Кейт.
Мистер Д’Арси вышел из каморки, застегнутый и укутанный до предела, и в извиняющемся тоне поведал им историю своей болезни. Все тут же принялись давать советы и говорить, как им жаль, и увещевать его как следует беречь горло на улице. Габриэл между тем наблюдал за своей женой, не принимавшей участия в разговоре. Она стояла прямо под запыленным светильником, и газовое пламя бросало отблески на пышную бронзу ее волос; несколько дней назад он видел, как она сушила их у огня. Она не меняла своей позы и, казалось, не слышала всех разговоров вокруг. В конце концов она повернулась к ним, и он увидел, что у нее блестят глаза и на ее щеках румянец. Радостная волна внезапно залила его сердце.
— Мистер Д’Арси, — спросила она, — а как называется эта песня, что вы пели?
— Она называется «Девица из Огрима», — отвечал он, — только я ее так и не вспомнил целиком. А что, вы знаете ее?
— «Девица из Огрима», — повторила она. — Я не могла вспомнить ее название.
— У нее очень красивый мотив, — сказала Мэри-Джейн, — мне так жаль, что вы были не в голосе.
— Нет-нет, Мэри-Джейн, — вмешалась тетушка Кейт, — не приставай больше к мистеру Д’Арси. Я запрещаю, чтобы к нему приставали.
Заметив, что вот-вот вся сцена начнется снова, она повлекла стадо свое к дверям, где состоялся обмен прощаниями:
— Доброй ночи, тетушка Кейт, спасибо за дивный вечер.
— Спокойной ночи, Габриэл, спокойной ночи, Грета!
— Доброй ночи, тетя Кейт, я так благодарна вам. Доброй ночи, тетя Джулия.
— А, Грета, спокойной ночи, мне не было тебя видно.
— Спокойной ночи, мистер Д’Арси. Спокойной ночи, мисс О’Каллахан.
— Доброй ночи, мисс Моркан.
— Еще раз, спокойной ночи.
— Всем, всем еще раз спокойной ночи. Счастливый путь.
— Доброй ночи. Доброй ночи.
Еще не начинало светать. Тусклый желтый свет был разлит над рекой и домами, и небо словно припало к земле. Под ногами хлюпало месиво, и снег на крышах, на парапете набережной и на перилах дворика лежал только пятнами и полосами. Фонари красновато горели в дымном воздухе, и за рекой на фоне тяжелого неба угрожающе выступал силуэт Дворца Правосудия.
Она шла впереди него рядом с мистером Д’Арси, держа в одной руке темный бумажный пакет с туфлями, другой рукою приподымая юбки от грязи. Сейчас в ее фигуре не было особенной грации, но в глазах Габриэла по-прежнему светилось счастье. Кровь в жилах его бурлила, в мозгу поднимали бунт мысли, радостные и гордые, нежные и отважные.
Она шла впереди такой прямой и легкой походкой, что ему безумно хотелось подбежать к ней без шума, обхватить сзади за плечи и прошептать на ушко какие-нибудь любовные сумасбродства. Она казалась ему такой хрупкой, что он безумно желал защитить ее от чего-нибудь и потом остаться с нею наедине. Образы их интимной жизни как звезды вспыхивали в его памяти. За завтраком он находит подле своего прибора конверт, надушенный гелиотропом, ласкает его пальцами. Птицы щебечут в лозах плюща, на полу комнаты мерцающей паутиной тень занавеси — а он от счастья не может есть. Они стоят в толпе на платформе, он всовывает билет в теплую ладошку ее перчатки. Он с ней стоит снаружи, на холоде, через зарешеченное окошко они смотрят, как человек выдувает бутылки возле ревущей печи. Был очень сильный холод. Ее лицо, благоухающее морозом, почти вплотную к его лицу, и вдруг она кричит человеку у печи:
— Сэр, а огонь очень горячий?
Из-за шума печи человек не мог ее слышать. Весьма кстати. Наверняка бы ответил грубостью.
Волна еще более нежной радости, переполнив сердце, разлилась теплым потоком по его жилам. Как нежный свет звезд, образы моментов их жизни, о которых никто не знает и не узнает никогда, наполнили его память и озарили ее. Ему безумно хотелось напомнить ей эти моменты, заставить ее забыть годы их повседневного скучного существования, чтобы помнились одни моменты экстаза. Ведь годы, он ощущал, не угасили ни его, ни ее души. Их дети, его писанье, ее домашние заботы не загасили нежного огня их душ. В одном из писем к ней он когда-то написал: «Отчего все эти слова кажутся мне такими тусклыми и холодными? Может быть, это оттого, что на свете нет такого нежного слова, как твое имя?»
Как отдаленная музыка, к нему донеслись из прошлого эти слова, написанные им годы назад. Ему безумно хотелось, чтобы они с ней были одни. Когда все уйдут, когда он и она окажутся в своей комнате в гостинице, они будут одни. И он бы мягко ее окликнул:
— Грета!
Может быть, она не сразу услышит, она будет снимать пальто. Потом что-то в его голосе ее поразит. Она обернется, посмотрит на него…
На углу Вайнтаверн-стрит они нашли кеб. Он был рад его громыханию, это избавляло от разговора. Она смотрела в окно и казалась утомленной. Другие только роняли несколько слов, когда проезжали какое-нибудь здание или улицу. Лошадь двигалась усталым галопом под задымленным утренним небом, влача за собою громыхающий короб, а Габриэл снова был с нею в кебе, мчась галопом, чтобы успеть на пароход, мчась галопом на их медовый месяц.
Когда они ехали по мосту О’Коннелла, мисс О’Каллахан сказала:
— Говорят, когда проезжаешь по мосту О’Коннелла, всегда видишь белую лошадь.
— На этот раз я вижу белого человека, — откликнулся Габриэл.
— Где? — спросил Бартелл Д’Арси.
Габриэл указал на статую, покрытую пятнами снега. Потом он фамильярно кивнул ей и помахал рукой.
— Доброй ночи, Дэн, — весело пожелал он.
Когда кеб остановился у входа в отель, Габриэл соскочил на землю и, вопреки протестам мистера Д’Арси, заплатил кучеру. Он дал еще и шиллинг на чай, и тот, сделав приветственный жест, сказал:
— Удачного Нового года, сэр.
— Вам того же, — радушно отвечал Габриэл.
Она опиралась на его руку, когда высаживалась из кеба и потом, когда, стоя на обочине, прощалась с другими. Она опиралась совсем легко, так же как и во время танца с ним, немного часов назад. Тогда он чувствовал себя гордым и счастливым, счастливым оттого что она его, гордым ее женственностью и грацией. Но сейчас, после стольких пылких воспоминаний, первое же касание ее тела, странного, музыкального, благоухающего, отозвалось во всем его существе острым спазмом желания. Под покровом ее молчания он крепко прижал к себе ее руку и, пока они стояли перед входом отеля, он чувствовал, словно они бежали из своих жизней, своего дома, бежали от обязанностей и друзей и с бьющимися сердцами безоглядно, неистово устремились к новому приключению.
Старый служитель дремал в холле гостиницы, устроившись в большом кресле с загибающейся спинкой. Вооружившись свечой, он повел их наверх по лестнице. В молчании они следовали за ним, мягко утопая ногами в толстом ковре, покрывающем ступеньки. Она шла позади портье, наклонив голову вперед, хрупкие плечи пригнулись как под какой-то ношей, и платье туго облегало ее стан. Он был способен сейчас схватить ее, прижать, стиснуть ее бедра руками, ибо руки дрожали от желания, и только с силою вдавив ногти в ладони рук, он сдерживал неистовый порыв тела. Портье приостановился, чтобы поправить оплывающую свечу. Они тоже остановились, несколькими ступеньками ниже. В тишине Габриэл мог слышать, как падают на подносик кусочки воска и как колотится в грудной клетке его сердце.