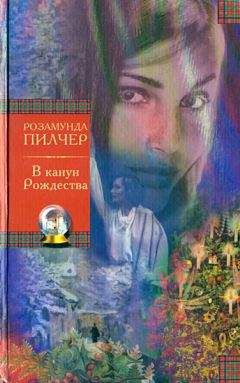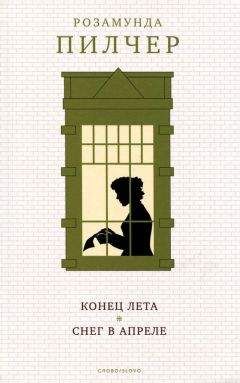Она открыла свои прекрасные серые глаза. Она уже накрасилась, и густые ресницы под тяжестью туши, казалось, с трудом поднялись. Но, увидев брата, Пандора улыбнулась и проговорила:
— Я не сплю.
— Вот, принес тебе выпить.
Он поставил одну рюмку ей на столик рядом с лампой и присел на край кровати. Тихо звучала по радио танцевальная музыка, словно долетая из необозримо далекого прошлого. Пандора сказала:
— Спасибо.
— Уже почти время спускаться, встречать гостей.
Ее блестящие волосы рассыпались по подушке, словно одушевленные, отдельной жизнью. Но сама она лежала такая худенькая, невесомая, нематериальная, что Арчи вдруг ощутил беспокойство:
— Ты что, устала?
— Да нет. Просто лень нашла. А где все?
— Изабел красится, Люсилла бродит по дому в одном белье, хочет взять у матери нижнюю юбку. А мужчины пока не показывались.
— Чудесная минута, правда, перед тем, как начнут съезжаться гости? Мне всегда нравилось это время. Еще успеешь дать передышку ногам, послушать старые песни. Помнишь эту? Какая славная. И грустная. Вот только не могу вспомнить слова.
Они послушали вместе. Мелодию вел тенор-саксофон. Арчи наморщил лоб, стараясь отыскать в памяти забытые стихи. Что-то из прошлого двадцатилетней давности. Берлин, полковой бал. Да, что-то связанное с Берлином.
— Помнится, там про то, как долго от мая до декабря… ах, ну конечно! Курт Вейль.[25] «Но короче становятся дни в сентябре…» И потом про осенние листья, а дни проходят, и кончается время ожидания… Чувствительная такая песенка. Очень за душу берет.
Пандора села, протянула руку за рюмкой. Арчи увидел, какое у нее узкое запястье, как бледна, вся в голубых жилках, ее тонкая кисть, длинные пальцы с красными ногтями, кажется, просвечивают насквозь.
Он спросил:
— Ты скоро будешь готова?
— Через мгновение. Мне только надеть платье, молнию застегнуть, и все.
Она сделала маленький глоток. Глаза над краем рюмки казались огромными.
— О, чудесно. Это придаст мне бодрости. А ты замечательно выглядишь, Арчи. Такой же франт, как в юности.
— Агнес Купер сказала: сказка.
— Вот это комплимент. А я вовсе не спала, милый. Просто лежала и думала про вчерашнее. Так было чудесно. Совсем как когда-то. Никого, только мы с тобой. Сидим в скрадке. Хочешь — болтай, не хочешь — молчи. Я, наверное, чересчур разговорилась, но ведь двадцать лет нескоро перескажешь. Тебе было не очень скучно?
— Нет. Наоборот, много смешного. Ты всегда меня смешила.
— А вокруг — солнце, голубые небеса, конопляночки посвистывают. А ружья — бух, бух! И бедная куропатка валится на землю прямо с неба. И собаченции такие сообразительные. Такой восхитительный, погожий денек подарила нам судьба. Повезло, да?
— Да. Согласен.
— Как хорошо, что возвращаются прежние времена, что они не сгинули навеки.
— Это не дело, пора нам расстаться с нашей дурацкой фамильной привычкой все время обращаться к прошлому.
— Но ведь это прошлое было такое чудесное, как же к нему не обращаться? Да и вообще, о чем же еще думать, если не о прошлом?
— О настоящем… вчерашний день прошел и умер, а завтрашний еще не родился. Нам дано только сегодня.
— Д-да.
Она сделала глоток. Потом помолчала. За дверью уже слышалась суета. Открылась и закрылась где-то дверь. И голос Люсиллы:
— Конрад! Ах, какой вы нарядный! Я не знаю, куда делся папа, но вы идите в гостиную, сейчас мы все спустимся…
— Надеюсь, — заметил Арчи, — что она успела надеть материнскую нижнюю юбку.
— Конрад такой безупречный джентльмен, что даже если Люсилла явится голышом, он не заметит. Славный Грустный Американец. А ведь мог оказаться унылым занудой. То-то был бы ужас для нас всех.
— Ты обязательно потанцуй с ним сегодня.
— Да, приглашу его на белый танец и, пока будем кружиться по залу, перезнакомлю со всей местной знатью. Одно только меня печалит, что ты не сможешь участвовать в танцах.
— Не огорчайся. Зато я за эти годы в совершенстве постиг искусство светской беседы…
Тут их, наконец, прервали: дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова Люсиллы.
— Извините за вторжение, но тут кризисная ситуация, па. Джефф никак не может завязать галстук-бабочку, которую ему дал Эдмунд. Он только один раз до этого надевал бабочку, но та была готовая, на резинке. Я попробовала, у меня тоже не вышло. Пойдем, помоги, ладно?
— Конечно.
Арчи призывал долг. Нужна его помощь. Кончились минуты тишины. Он поцеловал Пандору, поднялся и следом за Люсиллой вышел из комнаты. Пандора, оставшись одна, медленно допила виски.
«Эти дни драгоценные проведу я с тобой».
Песенке конец.
Вайолет, хотя в ее жилах и текла кровь диких шотландских горцев, всегда утверждала, что она не суеверна. Она не боялась проходить под стремянкой, не придавала значения, если пятница выпадала на тринадцатое число, никогда не стучала по дереву для отвода беды. Если появлялась какая-то примета, Ви твердо верила, что она к добру, и ожидала хороших вестей. Слава Богу, что у нее нет дара — или проклятия — ясновидения. Лучше не знать, какое будущее тебя ожидает.
Распорядившись насчет Эди и вырвав у нее под нажимом требуемое обещание, Вайолет надеялась, что на этом ее беспокойству конец и не из-за чего больше волноваться. Но не тут-то было. Она опустилась в кресло перед камином, вся во власти мучительных предчувствий. Так в чем же дело? Откуда эти страхи, обступившие ее со всех сторон? Она сидела в кресле, запахнувшись в старый толстый халат и вся подавшись вперед, вглядывалась в танцующее пламя, как бы ища в нем корень тревоги, внезапно холодной тяжестью легшей на душу.
Конечно, в том, что Лотти сейчас бродит где-то на свободе и Бог весть о чем помышляет, хорошего мало. Но, как ни удивительно, Вайолет гораздо больше беспокоит, что она не может дозвониться в Балнед и поговорить с Эдмундом. И дело тут не просто в прерванной связи. Во время зимних метелей ей нередко случалось по нескольку дней сидеть в Пенниберне отрезанной ото всего мира, и это ее нисколько не смущало. Дело в том, что телефон испортился в такой неуместный момент. Как будто вступила в действие некая злая тайная сила.
Нет, Вайолет не суеверна. Но неприятности всегда приходят по три. Сначала Лотти, потом телефон. Что третье?
Воображение ее устремилось к предстоящему вечеру. Вот где настоящее минное поле. Впервые действующие лица драмы, назревавшей всю последнюю неделю, соберутся вместе, вокруг обеденного стола в Крое. Эдмунд, Вирджиния, Пандора, Конрад, Алекса и Ноэль. Каждый на свой лад запутался, утратил душевный покой и пустился на поиски какого-то неуловимого счастья, как будто бы его, словно горшок с золотом в сказке, можно откопать у подножия радуги. Вырыли клад, а там ничего, кроме разрушительных эмоций — обид, подозрений, эгоизма, корысти и предательства. И супружеской измены. Одну лишь Алексу не затронула эта грязь. На долю Алексы досталась только боль любви.
Прогоревшее полено развалилось и с шорохом рассыпалось горкой пепла, прервав ее горестные мысли. Вайолет подняла голову, взглянула на часы и с ужасом увидела, как она засиделась. Уже четверть девятого! Она не успевает в Крой к назначенному сроку. В другое время это бы ее ужасно расстроило, она ведь так пунктуальна по натуре, но сегодня, сейчас у нее слишком много на сердце забот, чтобы волноваться еще из-за этого. Минут на пятнадцать опоздает, никто не хватится, а в столовую Изабел пригласит не раньше девяти.
И еще Вайолет вдруг поняла, что ей смертельно не хочется никуда ехать. Не хочется улыбаться, поддерживать разговор, скрывать, что у нее щемит сердце. Лучше бы отсидеться в тихой гавани своего дома, у своего очага. Где-то там, снаружи, затаилась непонятная угроза. Естественная человеческая опаска нашептывала Вайолет, что лучше остаться дома, заложить дверь на засов, сидеть у телефона и ждать.
Но Вайолет не суеверна.
Она взяла себя в руки. Встала из кресла, поставила заслонку перед догорающим огнем и поднялась наверх. Там быстро искупалась и стала наряжаться. Шелковое белье, шелковые черные чулки, заслуженное парадное платье из черного бархата и черные атласные бальные туфли. Поправила прическу, вынула бриллиантовую диадему и не без труда приладила на голове, запрятав резинку под волосами на затылке. Попудрилась, достала кружевной платочек, попрыскалась одеколоном. Наконец, подойдя к трюмо, окинула себя критическим взглядом. Перед ней была крупная, толстая старуха, для которой слово «солидная» было самым лестным эпитетом.
Крупная и толстая. И старая. Она вдруг ощутила глубокую усталость. Усталость выделывает с воображением разные удивительные фокусы: так, вглядываясь в зеркало, Вайолет словно бы различила позади своего отражения смутный образ другой женщины. Не то чтобы красивой, чего нет, того нет и никогда не было, но лицо молодое, гладкое, каштановые волосы, и на всем облике — печать кипучей энергии жизни. Это она, Вайолет, в малиновом бальном платье, ее любимом. И рядом с ней — Джорди. Видение продержалось с минуту, такое правдоподобное, хоть пальцем потрогай. А потом померкло и растаяло, и Вайолет снова осталась одна. Давно уже она не чувствовала себя такой одинокой. Но сейчас некогда стоять перед зеркалом и жалеть себя. Ее, как всегда, ждут, она нужна, требуется ее присутствие, участие. Вайолет решительно отвернулась от зеркала, надела меховое манто, подхватила выходную сумочку и выключила свет. Из дому она вышла через черный ход и заперла за собою дверь. На дворе было темно и сыро, в воздухе висела холодная изморозь. Вайолет прошла к гаражу и села в машину. Разные люди предлагали заехать и отвезти ее в Крой, но она предпочла отправиться на своей машине и в Крой, и потом в Коррихил. Так она совершенно ни от кого не будет зависеть и сможет вернуться домой, когда захочет.