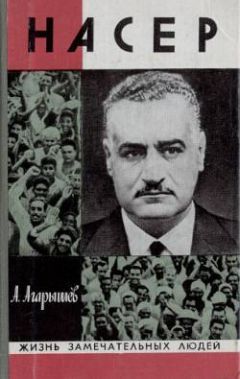«Арабы», – подумал Эван. Однако эта гипотеза так и осталась непроверенной. Белокурый направился к раву Фельдману, а бритый – к Коби. Он подошел к нему, показал удостоверение и спросил:
– Вы капитан Кацир? Коби кивнул.
– Сейчас ребята все установят, и вы позволите мне взять у вас интервью?
Коби вдруг стало очень грустно. Он понял, что прежняя жизнь, когда он просто жил, просто командовал солдатами, просто приезжал домой на шабат – все это уходит навсегда. Какой-то жуткий водоворот засасывал его, чтобы, закружив, вынести туда, где бурлит большая политика, где отец становится врагом номер один, а врагом номер два – штабное начальство. И жутко прыгать в этот омут. А надо...
– Рота, стройся! – крикнул Коби, глядя мимо телевизионщика.
Солдаты, переглядываясь с недоумением (интересно, что их командир решил?) и некоторым облегчением (слава Б-гу, хоть что-то решил!) начали выстраиваться по периметру поляны. Поселенцы сбились в кучу в середине. Шапкозакидательское настроение, которое только что царило среди них, потихоньку улетучилось – они оказались со всех сторон окружены солдатами, в самой невыгодной позиции из всех возможных. Дали усыпить свою бдительность, поверили излияниям благодарности и объятиям. Многие бросали косые взгляды на невозмутимо стоящего напротив Коби рава Фельдмана – дескать, оплошал, вовремя не скомандовал разбрестись по Канфей-Шомрону – солдатам пришлось бы сейчас попотеть! А то понадеялся на еврейскую душу и устроил тут братание! И вот, пожалуйста – если этот обаятельный офицер сейчас велит загнать их в автобусы, которые заранее приготовлены, и отвезти в Иерусалим или еще куда-нибудь, они ничего не смогут сделать.
Офицер меж тем принял рапорт у сержантов, скомандовал «смирно» и чеканным шагом направился к раву Фельдману.
Телекамеры работали в прямом эфире. Этот странный парад наблюдала вся страна. Коби встал перед равом Фельдманом, отдал честь и громко произнес:
– Рав Хаим Фельдман! Вверенная мне рота готова приступить к охране вашего постоянного места жительства, поселения Канфей-Шомрон.
– И, опустив руку, не по-армейски, а просто по-человечески добавил: – Вы можете пройти к себе домой.
Но поселенцы никуда не пошли. Они начали хлопать. Они аплодировали и аплодировали, и у многих из них, тех, что не заплакали даже при сообщении о смерти обожаемого ими Натана Изака, теперь по щекам потекли слезы.
Теперь сама железная Юдит плакала. Плакала и шептала:
– Спасибо, Натан! Спасибо, Натан! Спасибо, Натан!
А солдаты по-прежнему стояли по стойке смирно. Первым не выдержал Кахалани. Он тоже начал хлопать, не отрывая глаз от капитана Кацира. Хлопать громко, демонстративно, дескать, неужели ты меня за это накажешь. К нему присоединился еще кто-то. И еще, и еще. Через полминуты вся рота вместе с поселенцами аплодировала на глазах у изумленной страны.
– Отставить, – заорал Коби, и мгновенно наступила тишина.
Поселенцы в этом плане проявили себя не менее дисциплинированными, чем солдаты.
– Рота, смирно! Приказываю проводить жителей поселения Канфей-Шомрон к местам их проживания и оказать им помощь в восстановлении их жилищ.
После этого он обернулся к остолбеневшему бритому телевизионщику и, улыбаясь, сказал:
– Вот теперь я готов ответить на все ваши вопросы.
Но на самом деле был вопрос, на который он не был готов отвечать. И дело было даже не в том, что никому и в голову бы не пришло спрашивать – «а какова, уважаемый капитан Кацир, во всей этой истории роль вашего отца?», ведь если тебя не спрашивают, это не значит, что тебе не придется отвечать. И не в том, что доносить на собственного отца – сомнительная доблесть... Нет, самое главное, что сейчас, порвав с отцом, он любил его сильнее, чем когда-либо.
«Милый, ответь, это я!»
Ему показалось, что у дикторши, наговаривавшей текст, вдруг изменился тембр голоса, стал таким родным, и слова уже стали другими: «Милый! Отзовись! Сейчас это действительно я! Твоя Яэль!»
– Яэль!
– Коби, Коби, мой Коби! Какое счастье, что ты жив! У тебя мобильный телефон так долго был выключен – я уже почти отчаялась! А потом – как ни позвоню, всякий раз занято!
– Это тебе просто не везло, – улыбнулся Коби. – Не так уж я много и говорил.
– Да нет, ну сейчас я уже знала, что все в порядке – начальнику твоему звонила. А потом и по телевизору тебя увидела. Кинозвезда ты моя!
– Теле-...
– Теле... Да, а знаешь, как было страшно, когда сообщили, что на вас напали. И Ноамчик как раз проснулся! Как почувствовал – теребит своего Тигра и все спрашивает «Как ты думаешь, где сейчас папа?» А я слезами заливаюсь, схватила его в охапку – и к Каплану. Он человек верующий, знающий – поближе к Б-гу, чем мы, будет. – Что, говорю, на себя принять, если мой Коби жив останется? Шабат? Кашрут? Законы семейной чистоты? И знаешь, что он мне сказал, этот мудрый человек? Начните, говорит, жить по правде.
* * *
– Что ж, – повторил Коби, глядя на телевизионщика, – теперь я готов ответить на все ваши вопросы.
– Да, похоже, вы уже ответили, – пролепетал тот.
– Зря вы так думаете, – усмехнулся Коби. – Я могу еще кое-что вам рассказать. И о том, как поселенцы, которых нам велено было вышвырнуть вон, спасли нас от «Мучеников Палестины», и о том, как мой отец, депутат Кнессета Йорам Кацир, войдя в сговор с палестинским денежным воротилой Абдаллой Таамри, собрался строить на территории бывшего, а ныне возрожденного, поселения Канфей-Шомрон казино, и о том, как он прислал сюда своих людей, чтобы они убрали неугодных свидетелей. И у этих людей, и у самих свидетелей вы сможете взять интервью – они находятся под охраной вон в тех вагончиках. Нет-нет, не в тех, слева – там арабы, которые во время нападения на нашу базу захвачены в плен, с ними вы тоже потом побеседуете, – а эти вон там, на горке, видите? Сейчас мы с вами прошествуем вон туда. Там вы, а вместе с вами и телезрители, сможете побеседовать с секретарем господина Таамри Камалем Хатибом, а также с Юсефом Масри, убийцей семьи Сидки, той самой, по поводу уничтожения которой по всему миру уже две недели идет свистопляска. Так что, господин СМИ, не выключайте видеокамеру.
В этот момент вновь послышался рокот мотора, и на поляну выехал старенький-престаренький «рено». А может быть, старенький-престаренький «пежо». Марка машины не имеет значения. Важно – кто в ней приехал. А приехал – я.
* * *
Амихай, художник Амихай, знал, что когда-нибудь он напишет этот день, один из лучших дней его жизни. Но сейчас, когда все бросились разбивать палатки, его вдруг охватила усталость. Нет, не усталость после бессонной ночи, тяжелейшего перехода и жестокого боя. Была какая-то усталость внутренняя, как будто он себя увидел откуда-то из космоса и вдруг подумал:
«А чего копошимся? Вот – Натан Изак погиб, Ниссим Маймон погиб. А что, разве мы победили? Эти ребята нас впустили в Канфей-Шомрон, так ведь и других прислать могут. Против нас – весь мир! А если победим? Стоит клочок земли, пусть даже Святой земли, того, чтобы из-за него убивать и умирать?» Ответа не было. Была растерянность. Эта растерянность и породила усталость. Амихай напрягся. Надо было найти какой-то противовес этой внезапно накатившей апатии. И он нашел его. В мозгу зазвучали строки из книги рава Хаима:
«Амихай. Мой Амихай! Он ведь стал художником. Замечательным художником. У меня на стене висит его картина с коротким названием «Я». На этой картине изображены луна и осколок стекла. Сквозь осколок на беззвездный мир изливается лунный свет. Когда Натан Изак увидел эту картину, он сказал странную фразу, которую я и по сей день пытаюсь осмыслить: «А ведь Амихай мудрее тебя. Для тебя наш Израиль – убежище, где мы можем отсидеться, чтобы нас не уводили и не выдавливали. Но ты, раввин, забываешь, что обращенные к фараону слова «Отпусти народ мой...» имеют продолжение «...чтобы он служил мне». Мы можем выполнить свою работу не как скопище спасшихся евреев, а лишь как народ, и только на своей земле. Ты же знаешь – как луна, отражая солнечный свет, рассеивает скопившуюся в мире тьму, так и наш народ, отражая свет Вс-вышнего, изгоняет из мира зло. И большой кусок стекла, еврейское государство, и малый – Канфей-Шомрон – необходимы, чтобы Земля, наконец, расправила четыре своих крыла и полетела в завтрашний день».
* * *
Особенность климата Израиля заключается в том, что в смежных районах зачастую стоит совершенно разная погода.
Вот и теперь – в то время как на Шхем обрушилась буря, над поселением Канфей-Шомрон дело ограничилось небольшой упитанной тучкой, чьи края солнце аккуратно обшило золотой нитью, после чего начало из-за нее испускать лучи, широкие, как хвосты у комет.
– Вот здесь я жил, – сказал Эван, показывая на большой пустырь, который никак нельзя было заподозрить в том, что на его месте когда-либо был дом.
О том, что здесь некогда ступала нога человека, свидетельствовали лишь остатки изгороди вокруг зеленого пространства, на иврите называемого словом «гина» – нечто среднее между садом и газоном. Но тоненькая трехлетняя акация, о которой так беспокоился Эван в разговоре с Арье, была жива, хотя и совершенно не видна из-за обступивших ее сорняков. И стебли мальвы, длинные и косые, как жирафьи шеи, качались под январским ветром. Вот только цветов на них не было.