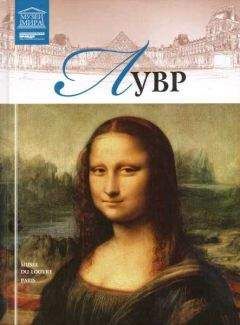Ужин трактористов.
По-суриковски густо, кряжисто написан характер героя, внешне ничем не примечательного, но красивого своей приверженностью земле, Родине, правому, справедливому делу.
В колорите холста угадываются звучания врубелевского «К ночи», куинджевских закатов, рериховских былинных сказов.
Но это Пластов!
Горько и как-то неловко читать сегодня пожелтевшие полосы газет, где в статьях искусствоведов той поры в пух и прах разносили эту замечательную картину за мнимую грубость, приниженность, примитивизм, незнание жизни.
Но, к счастью, это уже страницы истории.
Хотя художнику приходилось пережить в те годы немало тягостных минут, выслушивая упреки в отсутствии как раз тех самых качеств, которыми он обладал на самом деле в высшей степени, — правдивости и гражданственности.
Труден и замечателен творческий путь Пластова.
Вот несколько строк из его «Автобиографии»:
«Наше село лежало на большом Московском тракте, и, сколько себя помню, мимо нашего дома вечно тянулись бесконечные обозы, мчались тройки с ямщиками-песенниками.
Кони были сытые, всяких мастей, гривастые, в нарядной сбруе с медным набором, с кистями, телеги и сани со всякими точеными и резными балясинами, дуги расписные, как у Сурикова в «Боярыне Морозовой».
С тех пор запах дегтя, конское ржание, скрип телег, бородатые мужики приводят меня в некое сладостное оцепенение.
Блаженством, которое не повторится, пролетело детство.
Три года сельской школы. Лимонно-желтая азбука как будто вчера раскрыла передо мной чудеса звучащих и говорящих закорючек. Крохотный синий томик Пушкина-, Капитанская дочка» и кольцовское «Что ты спишь, мужичок» было первое, что я узнал из литературы и что пытался иллюстрировать.
Зачем?
Кто знает! Не помню сам.
К нам тогда ходила одна старуха, нянька Степановна. Она домовничала у нас, когда отец с матерью уходили в гости на святках, на пасху. Степановна, сухонькая и ласковая, рассказывала в сумерках нам былины и сказки про Илью Муромца, про Егория Храброго, про Аленушку и бел-горюч камень.
Купание коней.
Знала она их, должно быть, очень много, так как никогда ничего не повторяла, за исключением любимой нами Аленушки и братца Иванушки».
Как не вспомнить здесь еще раз строки Белинского о формировании таланта русского художника:
«Возьмем поэта русского: он родился в стране, где небо серо, снега глубоки, морозы трескучи, вьюги страшны, лето знойное, земля обильна и плодородна: разве все это не должно положить на него особенного характеристического клейма? Он в младенчестве слышал сказки о могучих богатырях, о храбрых витязях, о прекрасных царевнах и княжнах, о злых колдунах, о страшных домовых; он с малолетства приучил свой слух к жалобному, протяжному пению родных песен; он читал историю своей родины, которая не похожа на историю никакой другой страны в мире».
Но какие разные характеры рождаются на этой необыкновенной и великой земле.
Если Василий Иванович Суриков с детства прикипел сердцем к древности, к истории Руси и всю жизнь был верен этой благородной теме, то юный Пластов, получив первую школу у своего деда и отца — иконописцев — и наглядевшись вволю на «веселых кудрявых богомазов», приглашенных подновить роспись при-слонихинского храма, очарованный чудом, рождения среди розовых облаков какого-нибудь красавца гиганта, крылатого, в хламиде цвета огня», решил стать певцом своих современников, родного села, его летописцем.
Казалось, в этой купели должен был родиться талант типа нестеровского.
Но жизнь — великая кузница характеров — ковала иную лиру.
Пролетело детство… Рассказывает Пластов:
«В 1912 году я окончил четыре класса семинарии. Друзья и покровители устроили мои дела самым наилучшим образом. Губернская управа постановила выдавать мне стипендию на художественное образование по двадцать пять рублей ежемесячно. Я еду в Москву.
Устраиваюсь в мастерскую к ныне покойному И. И. Машкову дгш подготовки к конкурсу в Училище живописи, ваяния и зодчества. Это было месяца за два до экзамена.
Сам не свой брожу я по Москве. Башни и соборы Кремля, Китай-город с кустиками на седых стенах, Василий Блаженный, Красная площадь и, наконец, Третьяковская галерея…
Девушка с граблями (Вера Волкова)
Невозможно описать эти переживания.
Я задыхался и еле стоял на ногах.
Никогда я не чувствовал столько сил для любой победы на избранном пути, как тогда.
У Машкова я пробыл два месяца.
Жестоко страдал, когда он бесцеремонно толстенным углем выправлял мои филигранно отточенные карандашом головы, ни во что ставя мою манеру, так превознесенную в богоспасаемом Симбирске.
Но вот и конкурс. Три дня огромного напряжения — и в результате провал».
… Но упрямый паренек из Прислонихи не сдался. Он идет в Строгановку вольнослушателем в скульптурную мастерскую. Бегут месяцы, «стипендии на жизнь не хватало», но молодой Пластов добивается своего.
«В 1914 году я поступил на скульптурное отделение Училища живописи, ваяния и зодчества, — продолжает Аркадий Александрович. — Посидев в Строгановке за скульптурой, я пришел к мысли, что неплохо бы ее изучить наравне с живописью, чтобы в дальнейшем уже иметь ясное понятие о форме. Сказывалось, конечно, чтение о мастерах Возрождения. Живописью же я полагал пока так и продолжать заниматься на дому.
Три года был я в училище, окончил головной, фигурный, натурный классы… На лето уезжал в свою Приелониху, писал этюды, постигал премудрость передачи действительности с большой точностью, до натуралистической сухости».
… Казалось, путь художника начал определяться, он лежал в привычном кругу, очерченном мастерской, вернисажами, успехами и неудачами, словом, всем тем, к чему испокон веков трудно, но привыкали провинциальные неофиты.
Но судьбе угодно было распорядиться по-иному, и Пластов по мановению истории получил школу, еще невиданную.
«Революция (февральская) застала меня на третьем курсе.
После того как я, подобно многим, покатался по Москве на грузовике с пулеметами, с красным флагом на винтовке, арестовывая приставов, жандармов в участках, на вокзалах, я все же в конце третьей недели с начала революции поехал к себе в Приелониху писать на натуре.
Жизнь, однако, внесла свои неумолимые коррективы.
Деревенский март.
Сходки чуть не каждый день. Ко мне приходят десятки людей с такими вопросами, отвечать на которые мне и во сне не снилось, а отвечать, разъяснять, помогать разбираться в тысячах небывалых до сего времени вопросах я был вынужден благодаря своему положению самого грамотного человека в селе, положению «своего», которому можно было довериться.
Впервые я задумался над политической стороной жизни.
Прежнее, дофевральское, примитивное представление о революции безвозвратно покинуло меня. К стыду своему, в февральские дни мне мнилось что вот ликвидировать глупого и вредного царя — и основное дело свое революция выполнит.
Катаясь на грузовике, забирая в плен ошалелых околоточных, я искренне почитал себя заправским революционером.
И только в октябре, когда я приехал в Москву заканчивать Училище живописи и наткнулся совершенно неожиданно на баррикады и стрельбу на улицах, я уразумел наконец, что революция в такой стране, как тогдашняя Россия, — процесс, который по своему размеру и значению подобен смене геологических эпох в жизни нашей планеты, и что сейчас мало быть только художником, но надо быть еще и гражданином».
Гражданин… Это гордое звание носил Пластов с той поры всю жизнь — когда был избран членом первого сельсовета и когда в числе прочих безземельных был награжден землей и стал пахарем, косцом и жнецом. Он остался им и тогда, когда наконец, после великих трудов и переживаний одолел школу и стал мастером. Его путь был нелегок.
«В январе 1931 года в нашем селе организуется колхоз. В его организации я принимал горячее участие.
В том же году в один июльский день случился у нас пожар.
С час резвилось красивое всепожирающее пламя, и полсела ушло дымом в знойное июльское небо.
У меня сгорел дом и все вообще имущество. Все, что до сего времени я написал, нарисовал, — все пропало в пламени, стало пеплом, — горько вздохнул Пластов.
С этого времени я перестал принимать участие в полевых работах. У меня остались один огород и корова.
Надо было восстанавливать погибшее, и в темпах чрезвычайных. Эго было время, когда я медленно подходил к тому, как сделаться наконец художником».
Михаил Гуляев.
Аркадию Александровичу Пластову в ту пору было около сорока лет. Иной, может быть, заколебался, свернул с намеченного в юности пути «создать эпопею из крестьянского житья-бытья», разменял бы свой талант на мелочи.