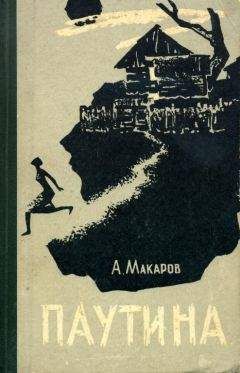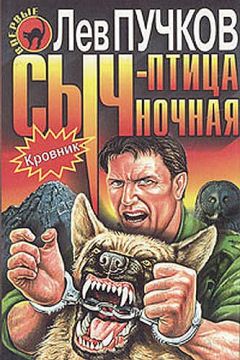Дальше листок призывал колхозников не подчиняться советским начальникам, своим председателям колхозов и бригадирам, не подпускать близ дворов и домов коммунистов и комсомольцев и гнать их из сел и деревень «вервием и дрекольем». Заканчивался листок жирным шрифтом:
«Возденьте одежды светлы, чисты, коленями станьте перед Христом на востоке и молитесь, дондеже не вострубит рог Архангелов и глас Спасителя не призовет вас на суд праведный и нелицемерный. Велю вам послание мое шестью переписати и шестью же вручати братиям и сестрам и ближним вашим. Аминь!»
От листа пахло ладаном.
— Их работа, — решительно проговорила Лизавета, вернув лист мужу, и отерла пальцы о траву. — Ишь, разошлись. Наплюют колхозники на их газету!
— Наплюют?.. Ты уверена?.. Ошибаешься… Во второй бригаде хуторян с воскресенья не выходят на работу четверо; в третьей сегодня семь прогульщиков: старухи, старики и солдатки; топят бани, моются, чистятся, палят свечи!.. Я уговаривал — не поддаются, звонил в район — удивляются: не ожидали, считали, что со скрытниками покончено. А секретарь райисполкома, знаешь, чего заявил?.. «Скрытники — ваша выдумка, товарищ Юрков; такой общины не зарегистрировано!..» Беспаспортники — и регистрация; вот же чудак, если не хуже!.. Нет, обнаглела Минодорина банда, пока мы воевали! Да и как не обнаглеть, когда на сельсовет два коммуниста осталось и оба — подноси да не сплесни!..
Юрков недобро покосился на лист.
— Сегодня назначены колхозные собрания по нашему сельсовету, — помолчав, сообщил он. — Райкомовцы приедут.
— Больно жирно для Минодоры!
— Как это понять — жирно?.. Как понять — жирно?.. Это же призыв к саботажу, да еще в военное время. И почему для Минодоры? Райкомовцы едут не к Минодоре, а к народу, к колхозникам.
— Эх, и раскрошу же я на собрании эту шатию-братию, и Минодору, и ее кривобокую! — Лизавета ударила кулаком по земле.
— Расплатишься? — полушутливо, полусерьезно спросил Николай, и на губах его появилась веселая улыбка.
— Расплачусь, — задорно тряхнула головой Лизавета. — За все и полным весом. За ту беременную дуру, которую папаша подвез, за это вот святое письмо, и за то, что себя очернила, чтобы Минодорины шашни раскрыть, и за то, что четыре дня ее кривобокую ведьму своим хлебом кормила. Даже за то, что из-за них меня в раймилиции осмеяли… Эх, жалко, что креститься не согласилась, струсила тогда ихней шайки-лейки, а сейчас каюсь. Теперь бы я их могла фактами крыть… Фактами бы, фактами, да по башкам бы, по башкам!
Она сердито вырвала клок травы, зачем-то сунула его себе под нос и отшвырнула прочь.
История, на которую намекала жена в своей горячей речи, стала известна Николаю еще на лесной тропе. Когда он находился уже во фронтовом госпитале и обещался домой, заехавшая в Узар женщина-следователь рассказала Трофиму Фомичу и Лизавете, как во время войны с Финляндией одну «согрешившую» красноармейку заполонила секта скрытников, как красноармейка, родив в обители и лишившись ребенка, повесилась в келье и как было вскрыто это двойное убийство.
Рассказ взволновал и молодую солдатку, и старика. Зная понаслышке, что в доме Минодоры скрываются странники, они решили точно проверить достоверность слухов, посоветовались между собою и стали действовать. Одной из подружек колхозной кладовщицы Лизавета пожаловалась, что скоро вернется муж, а она в тяжелом положении от другого. Спустя несколько дней к Лизавете пришла другая подружка колхозной кладовщицы и выведала, что «юрковская солдатка не находит себе места». Через недельку Лизавету навестила третья приятельница Минодоры, которая «своими глазами видела у несчастной солдатки намыленную веревку». Затем пожаловала Платонида с евангелием и лампадой. Она прожила у Юрковых четыре дня. Ее не гнали, чтобы разузнать где находится община и каковы ее дела, но получали тусклый ответ: «в странствии, взыскуя града господня». Зная, что Лизавета Юркова не Анна Дремина, проповедница старалась зацепить в солдатке иные чувства. «Мор и глад ниспослан на русскую землю, — говорила она, — все россияне гонят супостата-немца огнем и мечом, только боголюбцам завещано биться постом и крестом!»
— Сим победиши! — восклицала Платонида, обдавая Лизавету пламенем своего взгляда. — Тако сказал архистратиг Христа, тако говорю и я. А тебе, грешница-прелюбодейка, один путь — в странствие: мы и укроем, и грех замолим, и спасем!
Так и не добившись от хитрой старухи большего, Лизавета отказалась креститься, выпроводила проповедницу со двора, но при первой же возможности сходила в районный центр и обо всем сообщила милиции. Однако там просто-напросто посмеялись над горячностью колхозницы и заявили, что советская милиция с сумасшедшими старухами не воюет.
— Вот за весь этот позор я и отхлещу сегодня красавицу Минодору, — проговорила Лизавета с прежним огоньком. — Раз уж за нее милиция не берется, так возьмемся мы… Письмо-то дашь мне?
— Возьми, не жаль; я все равно на собрании не буду.
— Куда-то опять зовут?..
— Зовут. Начальство ведь: не просто полевод, а с привеском — сельисполнитель, да еще старший, — засмеявшись, проговорил Николай, потом серьезно добавил! — Дезертира ловить. Какого-то Калистрата Мосеева, из Ашьинского колхоза, что ли. Скрывается давно, а вчера где-то ребятишки видели; ну, участковый и просит помочь.
Лизавета осторожно подавила вздох, опять вырвала пучочек травы, понюхала его и не отшвырнула в сторону, а, не подымая глаз, припорошила травою обутую в сапог ногу мужа. Николай понял ее: недовольна, что он, не отдохнувший и полуголодный, с незажившей раной на руке и от ранения же больной головой, снова уходит, быть может, на целые сутки.
В самом деле, вернувшись из армии, Юрков очень мало бывал дома. Первую после возвращения неделю фронтовика возили по всему району — кто же, как не партизан, провоевавший в тылу гитлеровцев целый год, лучше всех расскажет народу о боевых делах родной армии?.. Потом подоспела посевная — кому же, как не полеводу с довоенным стажем, поручить руководство такой кампанией, тем более, что в колхозе пять бригад, три из них на окольных хуторах, бригадирами четыре хилых старика и один зеленый подросток, а председатель колхоза одноногий инвалид?.. Затем, то ли по старой памяти, то ли по новой — как фронтовика и разведчика, сельсовет утвердил Юркова старшим сельисполнителем — вручай повестки, помогай участковому милиционеру. Как откажешься от одного, от другого и от третьего, если война породила в деревне такое невиданное безлюдье?!
— Коля, солнышко-то…
— Чую, греет!
— Я не шучу.
— Знаю, иди, не задерживаю.
— А ты?.. Поесть, поспать?
— Есть не хочу, а посплю здесь. Схожу окунусь в реку и грохнусь вон там на траву!
Если бы Николаю Юркову предложили переехать на житье, скажем, в Крым или на Кавказ, предоставив всяческие удобства, он едва ли согласился бы покинуть свой родной Узар. Здесь все до мелочей было свое, родное. Этот древний, но вечно юный лес, к которому, словно привязанное нитками телефонных и телеграфных проводов приросло селение. Эта река, узорной дугой отгородившая тайгу от жилья, весной страстно бурливая, летом, когда щиты на мельнице закрыты, — ласковая, осенью грустная, а зимой, под снегом, незаметная. Эти поля, многоцветным ковром ниспадающие к деревне с Сокольей горы. Да и сама деревня — прапрадедовский Узар, где и сегодня еще нередки избы из кондовой уральской сосны, с подслеповатыми оконцами под верхним венцом и с резными петушками на шатровых крышах — чем она плоха? Правда, невелика, растянулась в одну улицу, в середине которой по-братски уживались под одной кровлей правление колхоза с сельской школой и пожарный сарай с колхозным амбаром. Прямая и ровная улица просматривалась из конца в конец, от крайнего двора Юрковых до крайней же усадьбы Минодоры.
Николай миновал свой огород, осторожно, чтобы не повредить раненую руку, перелез через прясло и невольно задержался на береговом пригорочке. Отсюда были хорошо видны тесовые крыши Минодориных хоромин — пятистенный дом, погреб, амбары, скотный двор и квадратная громада высокого угрюмого забора. Над всеми постройками возвышался, точно изогнутый шпиль над крепостью, колодезный журавль. Вид этих хором вернул мысли Юркова к разговору с женой.
Рассказ отца о встрече со странницами в весеннем лесу и нетерпеливые, подчас злые разговоры Лизаветы о лицемерных поползновениях Платониды не только не обеспокоили Николая, но и забавляли его: хм, секта — три выжившие из ума старухи, подумаешь, страх!.. Однако появление «святых» писем и несомненно связанные с ними прогулы двенадцати колхозников в трех самых отдаленных и самых отстающих бригадах встревожили его, вынудили позвонить в район и заставили призадуматься. «Что это за секта? — размышлял он, по горло сидя в прохладной воде. — Неужели я налгал райисполкому, что это скрытники? Неужели отец и Лиза ошиблись или приукрасили?.. Да, была такая секта до революции. Отец и дед Демидыч рассказывали, как полиция ловила в сектантских подвалах сперва фальшивомонетчиков и убийц, потом дезертиров с германской войны. Была она и после. Помню, азинцы поймали у ашьинского прасола — сектанта двух мобилизованных бывших мелких торгашей и расстреляли и прасола, и дезертиров на Сокольей горе. Знаю, что была эта секта и много позже. Сам комсомольцем помогал милиции ловить бежавших из высылки кулаков, и четырех мы нашли в подземных церковках у скрытников… Ну да, точно: двух в Ашье, у Ермилы Гордеича, и двух на хуторе у Мавры Ионихи… Там же взяли и нашего мельника Луку Силыча — помню, ревел как баба! Но это было в раскулачивание, тогда и секты ликвидировали. Неужели скрытники поднялись через тринадцать лет?!»