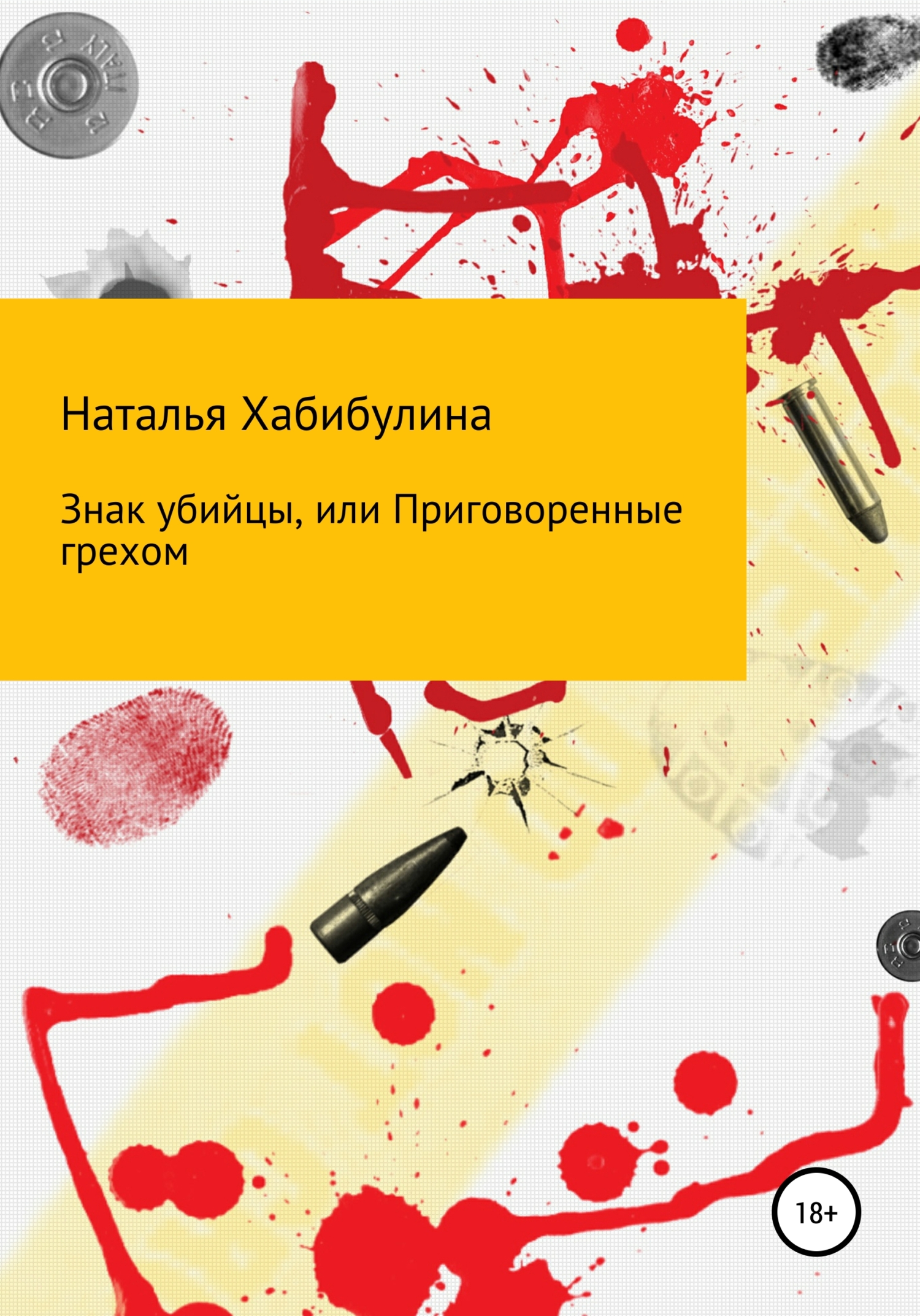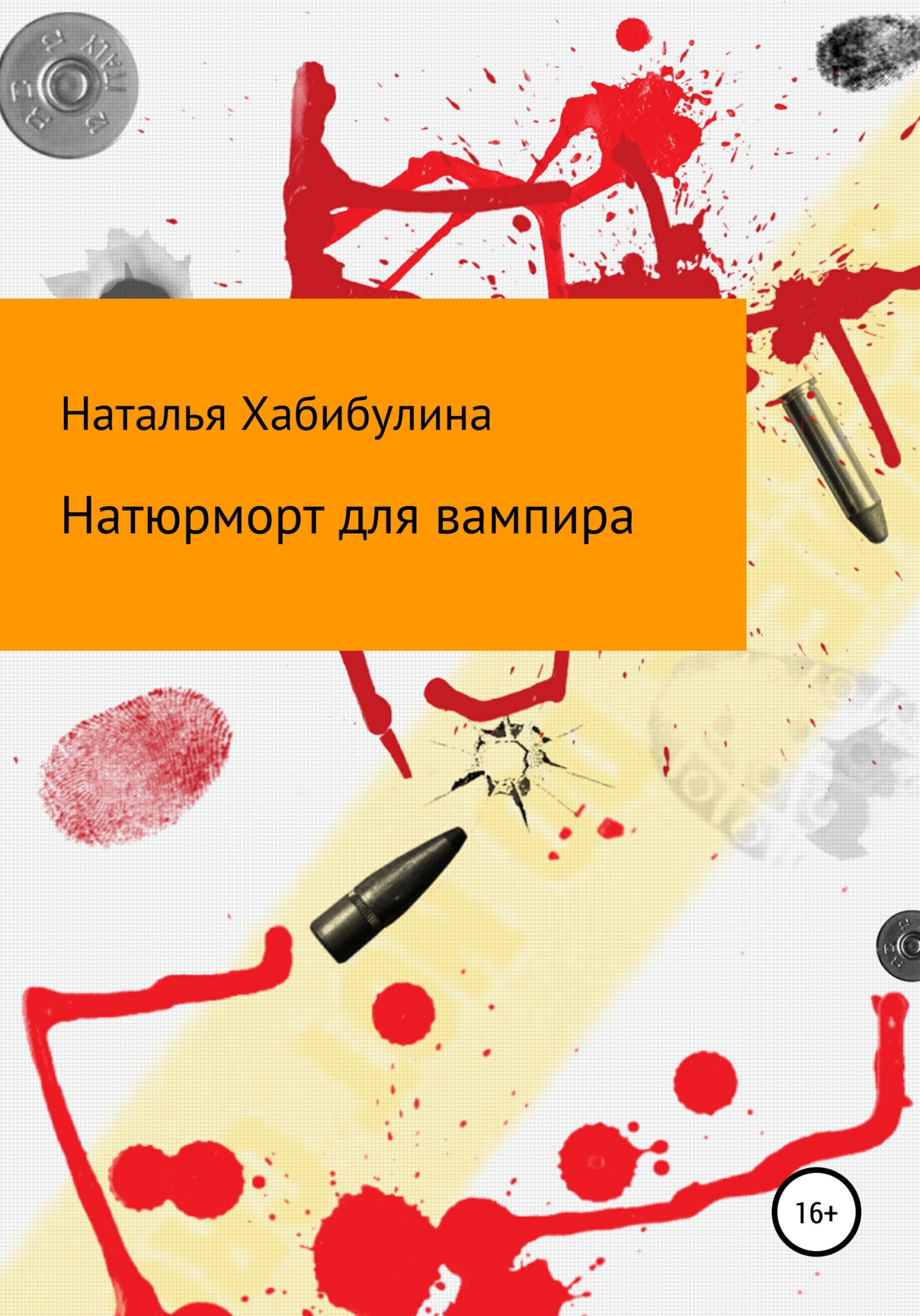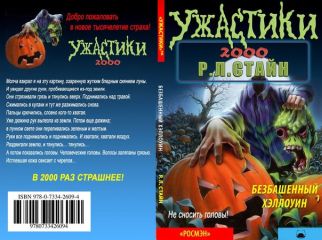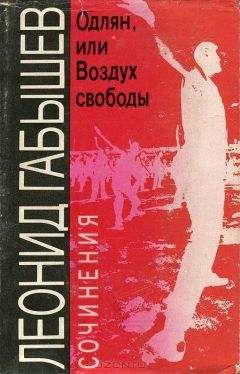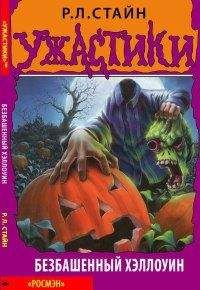class="p1">– Я к вам без претензий, читайте, – ему вдруг пришла на ум шальная мысль, каким образом вызвать девушку на разговор о Перницком, если он вообще был ей знаком. – Вы не могли бы зайти ко мне в номер? Мне нужна ваша помощь…
– Да, конечно, через десять минут я буду у вас, – Тина быстрым шагом пошла по коридору, а Дубовик так же быстро направился в свой номер.
Там он достал из чемодана сложенную шелковую сорочку и оторвал от неё верхнюю пуговицу, при этом нечаянно повредив и саму ткань, но так, по его мнению, было даже лучше.
Когда Тина вошла, он сокрушенно осматривал своё случайное «творение».
– Вы видите, что я сделал? Не могли бы вы это исправить? – Андрей Ефимович протянул девушке сорочку.
– Ну, это я исправлю вам в два счета, – она протянула руку, и в этот момент Дубовик сказал слова, которые оказались необыкновенно пророческими.
– Перницкий передал вам привет! – это был откровенный блеф, но реакция Тины просто поразила его.
– Так вы!.. Вы!.. – глаза её потемнели, она смотрела на Андрея Ефимовича почти с ненавистью. – Значит, вам знаком этот человек, и вы скрывали?.. Это он вас сюда подослал? – девушка едва сглотнула ком. – А я вам доверилась… – она повернулась, чтобы уйти, но Дубовик крепко схватил её за руку.
– Тина, простите меня, если я вас обидел, но я совершенно не знаком с этим человеком! Меня просил один приятель, видимо он знает этого Перницкого, а я лишь выполняю его просьбу! И если бы я знал, что это доставит вам неприятность, то, поверьте, не стал бы даже произносить этой фамилии! – Андрей Ефимович говорил очень горячо и убедительно. Он, действительно, чувствовал вину перед девушкой, и то, что слова его попали «в точку», было для него полнейшей неожиданностью.
– Послушайте, я не могу судить о нем, поскольку, как я уже сказал, не имею чести знать этого человека, но судя по вашей реакции, могу лишь предполагать, что он обидел вас. Я прав? – Андрей Ефимович усадил девушку на диван и сам присел рядом с ней. – Кто он такой, вообще? Вы можете мне сказать?
Тина сидела, опустив голову и судорожно перебирая пальцами ткань сорочки. Потом, судорожно всхлипнув, подняла глаза на Дубовика. К его удивлению, они были совершенно сухи.
– Он отец моей дочери… – этими словами она просто пригвоздила подполковника к дивану, он почувствовал, что язык его присох к нёбу. Своей выдумкой Андрей Ефимович хотел добиться чего угодно, но только не такого признания.
Трезво рассудив, Дубовик понял, что такой поворот даже на руку ему.
– Мой отец уже десять лет проводит в ссылке, причина та же, что и у многих других. Перницкий, узнав об этом, обещал посодействовать в его освобождении, а за эту услугу воспользовался… Мне неприятно это говорить, вы сами понимаете… Узнав о моей беременности, он просто отвернулся от меня, да ещё и пригрозил… Это страшный человек, как я потом узнала. Он сам многих послал туда, где находится мой отец. Полтора года прошло с тех пор, как он был здесь последний раз… О дочери никогда и ничего не спрашивал и, вообще, делал вид, что мы с ним незнакомы… И что же сейчас его заставило передать мне привет?
Дубовику решил до конца использовать полученную информацию:
– Он, как мне сказали, попал в дом инвалидов, передвигается только на коляске. Видимо, рассчитывает теперь на ваше расположение и сочувствие.
Девушка посмотрела на Андрея Ефимовича, и по блеску её глаз он понял, какие чувства овладели ею. Она всплеснула руками и довольно произнесла:
– Значит, есть Бог на свете! Наказал эту сволочь! Только зря он надеется на мое прощение, так и передайте!
Медсестре Андрей Ефимович задал вполне конкретный вопрос: «Помнит ли она Перницкого?»
Девушка вопросительно посмотрела на Дубовика. Потом осторожно спросила:
– Он ваш друг?
– Нет, и ещё раз нет! Я услышал о нем случайно. Ведь он отдыхал здесь? У него было что-то с ногами? Он сейчас оказался в инвалидной коляске, и винит в этом… э-э… всех… – Дубовик не стал напрямую называть имени доктора. Такой ход был бы не просто не корректным по отношению ко Льву Евгеньевичу, но и оскорбительным, тем более что Андрей Ефимович не имел представления о том, что мог вообще говорить Перницкий о своей болезни. Но ему нужна была информация об отношении доктора и пациента, и это ему удалось.
– Он смеет обвинять Ковальского в своей болезни? Мало того, что этот товарищ просто изгалялся над доктором, ещё и обещал на его голову все неприятности за то, что тот посмел сделать ему замечание за отношение к женщинам. А то, что он оказался в инвалидной коляске – только его вина! Лев Евгеньевич предупреждал, что именно так Перницкий и закончит свою жизнь.
Девушка замолчала, с явным негодованием переставляя флаконы с препаратами, будто хотела на них выместить все своё зло.
– А знаете, – она присела на кушетку рядом с Андреем Ефимовичем, – мне кажется, что в прошлом этих мужчин что-то связывало… Лев Евгеньевич что-то знал о прошлой жизни этого «зверя»… По-другому я не могу его назвать…
– Скажите, Ольга, если я пойду сейчас к Ковальскому, и скажу ему напрямую, что меня интересует, он будет со мной откровенен? Как вы думаете? Я всё-таки очень хочу ему помочь, и не только статьёй!..
Девушка замялась.
– Мне трудно решать за него, но… Наверное, к каждому человеку можно подобрать ключик… Попробуйте, только прошу – не ссылайтесь на меня, это может рассердить доктора, он не любит, когда кто-то вмешивается в его дела, если он сам того не пожелает.
– Обещаю!
Доктор долго молчал.
Андрей Ефимович даже хотел подойти и тронуть за плечо стоявшего к нему спиной Ковальского, так как в какой-то момент Лев Евгеньевич в своем белом халате и с головой, опушенной совершенно седыми волосами, стал похож на гипсовую статую.
Внезапно Ковальский заговорил, не поворачиваясь к собеседнику:
– Это постыдный этап моей жизни, за который я теперь расплачиваюсь… И не Перницкий в этом виноват… Моё тщеславие, вера в свою исключительность, индивидуальность сыграли со мной злую шутку, и тогда вместо кафедры я получил не второе, и даже не третье, место в этом гнезде разврата. – Дубовика поразили эти повторенные за ним слова доктора. – Некоторые весьма предприимчивые деятели поставили на мои, не совсем чистоплотные, качества натуры…
Ковальский, произнося свою речь, сгорбился и ещё больше постарел. Статуя готова была разрушиться.
– Не думайте, что вы вызвали у меня желание исповедаться, я