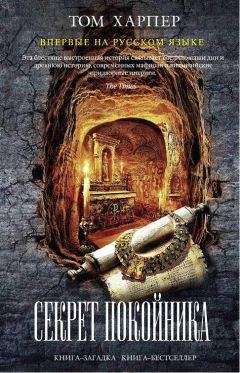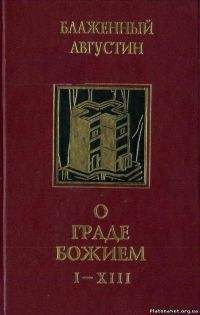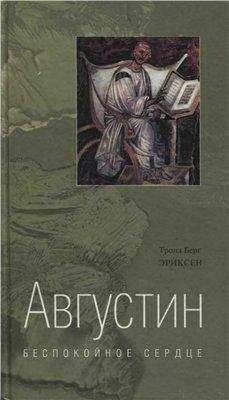Он как-то странно смотрит на меня, нет, это не раскаяние, не страх и даже не гнев. Симеон остается на удивление спокоен. Похоже, ему меня жаль.
— У меня был ключ к жилищу Александра, — говорит он. — Если, как ты говоришь, Евсевий хотел от него избавиться, то зачем это было делать с такой жестокостью и в таком людном месте, как библиотека? И зачем мне нужно были идти на столь изощренные уловки, чтобы кого-то оклеветать? Не проще ли было бы как-нибудь ночью просто прийти к Александру домой и убить его там? Тем более что, по твоим словам, я мастер инсценировать самоубийства.
Следует воздать христианам должное: они умеют спорить. Интересно, он всегда был таким? Мне он почему-то кажется другим — более сильным, более уверенным в себе. Помню, как я увидел его в первый раз. Тогда он буквально полыхал гневом. Казалось, прикоснись к нему, и тут же полетят искры. Теперь же передо мной холодная сталь.
У него на все находится готовый ответ. Как будто эти ответы он приготовил заранее. Или, может, история, которую я пытаюсь связать воедино, такая шаткая, что в ней легко найти дыры.
Но как тогда быть с вопросом, который задал Порфирий? Зачем было вновь привлекать к Симмаху внимание? Зачем было его убивать? Не проще ли было отправить старика в изгнание?
На меня накатывается страшная усталость. Внезапно мне делается дурно, я чувствую, что пошатнулся. Симеон хватает меня за плечо и пытается подвести к скамье, но я стряхиваю с себя его руку. Он отступает. Глаза его горят.
— Август знал, что христианин сделать такого не мог. Именно поэтому он поручил тебе расследовать это убийство. Он знал, что это дело рук приверженца старой религии.
Несмотря на головокружение, меня охватывает гнев.
— Мне тошно слышать о том, что христианин не мог этого сделать. Вы только и делаете, что грызетесь друг с другом.
— Ты ничего не знаешь о христианах!
— А ты помнишь Никейский собор?
Он пожимает плечами.
— Мне тогда было двенадцать лет.
— А я там был. Там собралось двести пятьдесят епископов, и все, на что они были способны, это с пеной у рта спорить друг с другом.
— Разумеется, они спорили! Мы постоянно спорим. Иначе у нас не получается. Но лишь потому, что это для нас важно, — он хочет сказать что-то еще, умолкает, заставляет себя успокоиться и пытается говорить снова. — Ты когда-нибудь кого-то любил?
Такого вопроса я от него не ожидал. Он не пытается быть жестоким. Его лицо спокойно, он задал его со всей серьезностью, пытаясь найти то общее, что объединяет нас. В его возрасте трудно себе представить, что можно прожить без страсти.
Что мне ему сказать? Должен ли я рассказать ему обо всех женщинах, какие у меня были? Что женился я поздно, когда стало понятно, что мне никогда не войти в императорскую семью. Поздно и неудачно. Что мой брак оказался недолговечным? Но он спрашивает меня о другом. И ответ звучит так: да, я любил. И посмотри, что сделала со мной любовь.
— Я любил.
Он кивает, явно довольный моим ответом.
— А когда кого-то любишь, то хочешь узнать как можно больше о любимом человеке. Хочешь проникнуть в каждую его мысль, в каждое чувство, потому что чем больше ты его знаешь, тем сильнее любишь его.
Признаюсь честно, я сбит с толку.
— Ты говоришь о вашем Боге?
— Мы спорим, потому что хотим познать его. Потому что мы его любим.
— Как можно любить бога?
Боги ужасны, опасны и капризны, как огонь. Когда-то Константин пользовался их благосклонностью, но даже его всегда терзал вечный страх, что в один день он может ее лишиться.
Симеон подается вперед.
— Всю свою жизнь ты блуждал в темноте. А в темноте мир кажется жутким местом. Но Христос принес нам свет. Он сорвал занавес, позволил нам увидеть свет господней любви. Ты знаешь, что сказал Святой Иоанн? «Бог так возлюбил этот мир, что отдал нам своего единственного сына, чтобы мы уверовали и имели жизнь вечную». Это не твои боги, для которых люди — игрушки. Наш Бог пожертвовал из любви к своему творению собственным сыном. Ты это можешь представить себе?
Я больше не в силах это слушать. Я поворачиваюсь и иду прочь. Стараюсь поскорее уйти, насколько мне позволяют ноги.
— Я буду молиться за тебя! — кричит он мне в спину.
Не замедляя шага, я оборачиваюсь.
— Ты лучше помолись о том, чтобы я нашел убийцу Александра.
Мне срочно требуется принять ванну. Я встал еще затемно и теперь весь покрыт пылью. Пыль у меня в волосах, на щеках, даже на языке. Стоит мне посмотреть на свои руки, как я тотчас вздрагиваю, вспоминая отравленный бассейн и мертвого Симмаха с ним рядом.
Это частные бани, просторные, вместительные, и меня здесь хорошо знают. Большинство посетителей — высокопоставленные чиновники. В главном дворе молодые люди затевают борцовские поединки или кулачные бои, или, словно петухи, расхаживают с важным видом, как это свойственно молодости. Друзья наблюдают за ними, собравшись в сторонке. В тени аркады расположились торговцы благовониями, гребнями и заморскими снадобьями, которые якобы способны сделать человека сильнее или красивее.
Раздеваюсь и иду в тепидарий. В отдельные дни я предпочитаю бассейн с прохладной водой, он взбадривает мое старое тело, но сегодня мне нужно тепло. Я даю денег банщику: пусть он проследит за тем, чтобы торговцы и массажисты не докучали мне, а сам погружаюсь в теплую воду и закрываю глаза.
Мысли тотчас уносят меня к неразгаданной загадке. И, все-таки, виновен ли Симеон, если не в смерти Александра, то в смерти Симмаха? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Внешне Симеон такой искренний, он почти убедил меня в своей невинности. Но с другой стороны, мне прекрасно известно, что порой убийца живет, не ведая угрызений совести, как будто он никого не убивал.
Мысленно я вижу несчастного Симмаха в его саду. Что, если это действительно самоубийство? Другие стоики нередко предпочитали подобный исход. Катон, чья мраморная голова теперь лежит на дне бассейна. Сенека, великий философ и политик, участник заговора против Нерона. Он умер в ванне, вскрыв себе вены, чтобы кровь, вытекая из них, смешивалась с теплой водой. Впрочем, слышал я и другую версию: он якобы умер не от кровопотери, а задохнулся горячим паром.
Думается, в парную я сегодня не пойду. Сенека не единственный, кто умер в горячей бане.
Аврелий Симмах — стоик. Материальный мир не способен прикоснуться к его душе.
Но что особенного в этих стоиках? Они утверждают, будто овладели миром, что они выше всех и вся. А затем они убивают себя. Неужели нечеловеческие усилия в конечном итоге так изнашивают их? Ведь какая сила воли нужна, чтобы сдерживать в себе эмоции перед лицом тех вызовов, которые нам постоянно бросает жизнь!
Быть выше этого мира — значит стать богом. Стоики считают, что способны на это силой интеллекта и воли. Христиане — силой веры. Возможно, разница между ними не так уж и велика. И те и другие пытаются бежать от человеческой природы. Неудивительно, что многие кончают с собой.
Мне не нравится, куда движутся мои мысли. Я открываю глаза и поливаю водой спину.
— Вода слишком холодна! — кричу я банщику. — Подбрось дров в огонь!
Кто-то окликает меня по имени.
Я поднимаю взгляд. Мне требуется всего мгновение, чтобы понять, кто это: Басс, придворный сановник. Когда-то давно, в мою бытность консулом, он служил в моем штабе. Сейчас он наг, бледная мучнистая кожа в капельках пота, волосы прилипли к голове. Выглядит он отвратительно, но я заставляю себя приветливо поздороваться с ним. Он залезает в бассейн рядом со мной.
— Ты слышал про Аврелия Симмаха?
Поскольку он сидит рядом, то вряд ли видит удивление на моем лице. Впрочем, этого следовало ожидать. Древний род. Сначала убийство, затем самоубийство. Город будет гудеть об этом еще несколько дней, пока на смену одной скандальной новости не придет другая.
— Я слышал, он наложил на себя руки, — говорю я.
— Принял яд, — говорит Басс, шлепая руками по воде. — Хорошо, что он не пришел сюда в бассейн, чтобы свести счеты с жизнью как Сенека. Представляешь, что было бы?
— Представляю.
Басс откидывается на спину и чешет подмышки.
— Странно, однако. Я видел его прошлым вечером. Он приходил во дворец.
Услышав наш разговор, некоторые посетители подвигаются поближе. Я слегка прикрываю глаза.
— Он что, надеялся на помилование? — спрашивает кто-то.
— Он был возбужден. Сказал, что ему нужно видеть префекта.
— Не иначе вспомнил, как греки поступают со стариками, — говорит капитан стражи. За словами следуют хохот и неприличные жесты.
Басс ждет, когда шум умолкнет.
— Он сказал, что узнал что-то про одного христианского епископа. Какой-то скандал.
Неужели банщик не прислушался ко мне? Вода такая холодная, что меня начинает бить дрожь. Поскольку теперь вокруг нас стоит гул голосов, я подвигаюсь ближе к Бассу и шепчу ему на ухо: