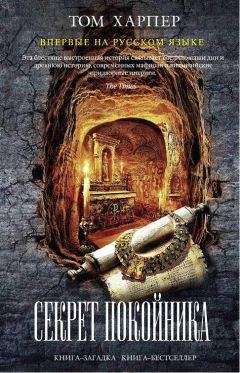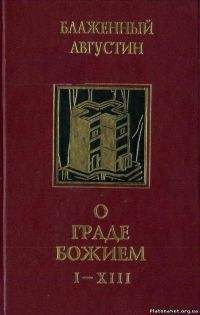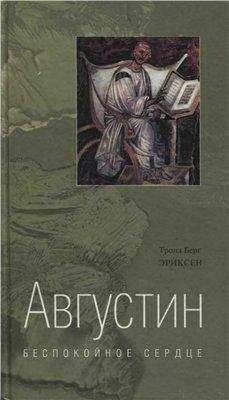— Почему тебя оставили одного?
— Чтобы я мог приготовиться. Евсевий должен меня крестить.
Он видит выражение моего лица — нечто среднее между отвращением и болью.
— Пора, Гай. Я и так тянул слишком долго. Я потратил всю свою жизнь на то, чтобы объединить империю, быть правителем всего моего народа, независимо от того, каким богам они поклоняются. Я никогда не проповедовал им. И тебе тоже.
Он меня не понял. Мне нет никакого дела до хитросплетений христианской догмы, даже если она утешит его на пути в мир иной. Мне неприятно, что здесь, на смертном одре, Евсевий имеет над ним власть.
Константин снова закрывает глаза.
— Как жаль, что со мной нет сына.
Внутри меня все холодеет. Я догадывался, что так и будет. Возможно, сидя в вестибюле, я видел те же горячечные образы, что и Константин.
Но я нарочно делаю вид, что не понял его.
— Констанций скоро прибудет сюда из Антиохии. Клавдий и Констант также в пути.
И наверняка опоздают, добавляю я про себя. Насколько мне известно, старший сын Фаусты, Клавдий, правит в Трире, занимает старый дворец Криспа. Констант, младший из троих, — в Милане.
— Они славные юноши. — Возможно, это виновата болезнь, но я не слышу в его голосе убежденности. — Они защитят империю.
Все трое — сыновья Фаусты, внуки старого вояки Макси-миана. Интриги, убийства, узурпация власти — все это у них в крови. Не пройдет и трех лет, как они начнут открыто враждовать между собой.
— Ты же позаботься о моих дочерях.
— Я сделаю все, что в моих силах.
Даже в эти минуты в глубине моего сознания явственно звучит голос, и он говорит: как только Константина не станет, ты уже не сможешь гарантировать ничью безопасность и тем более свою. Я не что иное, как осколок прошлого, которое рушится у меня на глазах.
Я слышу дыхание Константина, частое, надрывное.
— Мне нужно приготовиться. Я должен исповедаться в грехах.
— Ты не должен передо мной ни в чем исповедоваться.
— Нет, должен. — Из-под простыней, словно змея, высовывается тощая рука. Костлявые пальцы хватают меня за запястье. И когда только он успел так исхудать?
— Евсевий говорит, что прежде чем принять крещение, я должен исповедаться в грехах. Я сказал ему, что могу исповедаться тебе.
Вряд ли Евсевий был этому рад. Неудивительно, что меня так долго не впускали.
— Ты знаешь, что я сделал.
— В таком случае, зачем это говорить вслух. — Я подтягиваю простыню к его подбородку. — Согрейся.
— Прошу тебя, Гай, иначе небесные врата захлопнутся предо мной. То, что я сделал, не только это. Любой смертный приговор, который я подписал. Каждый ребенок, которого я не сумел защитить. Каждый невинный человек, которого я осудил, потому что того требовали интересы империи…
Интересно, кого он имеет в виду? Уж не Симмаха ли?
— Я до сих пор вижу его, — неожиданно говорит Константин. — Всего месяц назад, в сумерки, когда я ехал через Ав-густеум. Я был так счастлив, что спрыгнул с лошади, чтобы его обнять. Я подумал о том, что скажу ему, и, казалось, вся желчь до последней капли покинула мою душу.
На его щеке поблескивает капелька слюны. Я вытираю ее уголком простыни.
— Разумеется, не успел я подойти к нему, как он исчез.
Константин переворачивается, резкое движение, как будто его подбросило волной.
— Сколько раз я молился, чтобы ты ослушался меня, — продолжает он. — Чтобы ты его не убивал, чтобы позволил ему убежать. Помнишь нашу любимую шутку, когда мы с тобой были пленниками при дворе Галерия? Что мы с тобой убежим в горы, оставим позади нашу славу и наши беды и будем жить простыми пастухами в Далмации. Я так надеялся, что и с ним будет то же самое.
Неужели это исповедь? Сомневаюсь, что она удовлетворит Евсевия. Впрочем, я не виню Константина за то, что он постарался обойти стороной острые углы. Но, похоже, наше время истекло.
Из-за бронзовых дверей в конце зала то и дело раздаются какие-то звуки — глухие удары и стоны, как будто за ними в клетке сидит зверь. Евсевий вернется сюда с минуты на минуту. Это — мгновения его триумфа, и он бы не хотел, чтобы смерть вырвала у Него венценосного новообращенного.
Константин заговорил снова. Правда, едва слышно, я с трудом разбираю его слова. Я встаю с табурета и опускаюсь коленями на мраморный пол. Наши лица почти соприкасаются. Мне видна паутина красных линий на белках его глаз, фиолетовые мешки под глазами. Эти глаза когда-то взирали на весь мир.
— Как ты думаешь, почему я отправил тебя в Пулу? — шепчет он. — Я подумал, что если кто-то и проявит милосердие, то только ты. Ну почему ты меня не понял?
Его слова подобны ударам кинжала. Они безжалостно вспарывают мне сердце. Он действительно так хотел? А я, выходит, ошибся? Или же он вновь переписывает историю, чтобы успокоить свою совесть? Затаив дыхание, смотрю ему в глаза.
Что такое истина? Философы говорят, что она известна лишь богам, и наверно, они правы. Для нас, простых смертных, она — лишь клубок выцветших воспоминаний и лжи.
— Я всего лишь выполнил то, что мне было поручено.
Взгляд Константина устремлен куда-то в пространство.
— Ты помнишь Аврелия Симмаха? — шепчет он.
Неужели это вторая часть его исповеди?
— В тот день, когда я покидал Константинополь, он обратился ко мне с прошением. Хотел видеть меня. Он сказал, что ему известна правда о моем сыне. Как ты думаешь, мне следовало его принять?
— Правда о твоем сыне? — спрашиваю я. Не иначе, как он имеет в виду Александра, или Евсевия, или гонения христиан.
— Я ничего не хотел знать и отправил его к моей сестре.
Я чувствую, как моя голова идет кругом.
— Ты отправил его к твоей сестре?
Но разговор этот не о Симмахе.
— Я подумал, что, возможно, эта правда… — он на минуту умолкает. — Я ведь видел его. В Августеуме, среди статуй. Он точно там был.
— Вы скоро будете вместе, — говорю я.
— Неужели? — Неожиданно глаза его широко раскрылись, голос окреп. — Эта жизнь, которой я жил… ты думаешь, я ее заслужил? Евсевий говорит, что он способен смыть даже самое глубоко въевшееся пятно. — Константин качает головой. — Ты в это веришь?
— Ты прожил достойную жизнь. Ты принес империи мир.
— Я принес не мир, но меч, — еле слышно отвечает он. — В течение десяти лет я каждое лето вел военные кампании. Я умру здесь в окружении солдат, их точно будет больше, чем священников. Или ты считаешь, что все мои титулы будут что-нибудь значить, когда Христос встретит меня у небесных врат? Непобедимый Константин, четырежды победитель германцев, дважды победитель сарматов, дважды победитель готов, дважды — даков… Неужели ты думаешь, он будет так величать меня?
В дальнем конце зала бронзовые двери приоткрываются, и внутрь заглядывает озабоченное лицо священника.
— Евсевий ждет…
— Скажи ему, пусть подождет! — кричу я. Но, похоже, терпение Константина иссякло, да и время тоже. Он хватается костлявыми пальцами за перед моей туники и приподнимается. Я чувствую исходящий от него жар.
— Так ты прощаешь меня?
Прощаю ли я его? Мне трудно дышать. Я вот уже одиннадцать лет ждал от него этого вопроса. Эта была разделяющая нас пустота. Смерть нашей дружбы. Наша с ним внутренняя опустошенность. И вот теперь он задал его, но ответ застрял у меня в горле. Я не знаю, что ему ответить.
Я помню, что Порфирий сказал про Александра. Он все простил. Ни упреков, ни нравоучений.
Я наклоняюсь, чтобы обнять Константина. Я опускаю голову ему на плечо, ощущая щекой его сухую, горячую кожу, и обнимаю его голову.
— Прощай, — шепчу я ему на ухо.
Он весь напрягается. Из его горла рвется хриплый, сдавленный крик — не то ярости, не то отчаяния. Он захлебывается этим криком. Мне стоит немалых усилий отцепить от себя его пальцы, чтобы я вновь мог оттолкнуть его на подушки. Но он продолжает борьбу, машет руками, сбрасывает с себя простыни. Я тяжело бреду к двери. Она уже открыта. Внутрь врывается стража, за стражей — толпа священников, за ними следом — солдаты. Я иду против этой людской массы и вскоре сталкиваюсь лицом к лицу с Евсевием.
— Забирай свой трофей, — говорю я ему.
Но, похоже, он меня не слышит. Толпа несет его дальше, к смертному одру Константина. Я же тем временем выскальзываю прочь из зала.
Стоило мне остаться одному, как на меня накатывает раскаяние. Что бы ни произошло между нами, кто я такой, чтобы лишать старого друга его последнего утешения? Я разворачиваюсь, чтобы вернуться. Чтобы сказать, что я его прощаю. Что я люблю его.
Увы, толпа придворных преграждает мне путь. Мне никак сквозь нее не пробиться. Они плотной стеной становятся вокруг ложа, где Евсевий уже стоит рядом с тазом с водой. До меня долетают обрывки его слов.
— Умри и восстань для новой жизни, чтобы ты мог жить вечно.