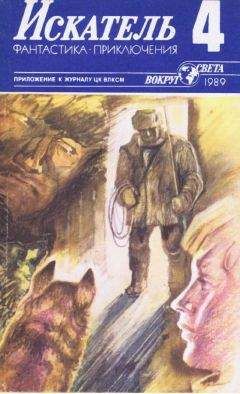власть, но каждый поступает по своему разумению, делает то, что сочтет нужным, внутренне не уважая тебя. Нет, браток, моральных обязанностей, нет готовности умереть за истинную правду, за своего товарища.
— Ты просто чем-то расстроен, — попытался я успокоить его, но тот лишь засмеялся.
— Нам теперь предстоит только расстраиваться.
Таков Велико. Не любит он легких путей. Идет напролом. Остановится, чтобы передохнуть, и все начинает сначала.
С ним испытываешь такое чувство, словно идешь сквозь бурю, но в то же время тебя не покидает состояние удивительного покоя. И ты готов умереть, даже не подумав о собственной шкуре.
В тот день Венета поднялась с постели и проводила меня до больничной лестницы. Она красивая. Даже Жасмина уступает ей по красоте. Но на лице Венеты печать страдания. Обретет ли она спокойствие со мной или, пока я жив, все будет блуждать как в потемках, надеясь на завтрашний день? Что я сумел дать ей до сих пор? Ее пытались украсть у меня, а я не нашел в себе силы оказать сопротивление. А если завтра на нашу долю выпадут еще более серьезные испытания?.. Она надеется на меня, и я рад тому, что она так верит мне. Но как долго это может продолжаться?
Венета стояла рядом со мной и просила:
— Забери меня отсюда. Хочу быть с тобой!
А я отложил это на следующий день, но, увы, что я сделаю завтра? Куда ее отведу? Завтрашний день придет и уйдет, и придется откладывать это еще на один день, на следующую неделю, месяц...
В трактире было накурено. Пахло жареным мясом и прокисшим вином. Еще в дверях я крикнул: «Вина и что-нибудь на закуску!» — и пошел искать себе место.
Велико там не оказалось. А может, он и приходил, да ушел.
В укромном уголке я заметил людей в военной форме. Поспешил туда, надеясь, что и Велико может быть среди них, но был немало изумлен, когда увидел, что это те самые солдаты, которых унтер-офицер Марков привел вчера из города.
Встреча оказалась неожиданной. Солдаты даже растерялись. Уверен, что они снова ушли без разрешения, но в тот момент мне было не до уставных предписаний. У меня были веские причины находиться в этот вечер именно здесь, и я решил остаться. А что касается нарушения устава, то и завтра будет день, чтобы во всем этом разобраться.
Человек в гражданском, который сидел вместе с ними, показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах мы с ним встречались.
Я поздоровался и сел.
— Что пьете? — спросил я, но мне никто не ответил.
— Мы как раз собирались уходить, — сказал ефрейтор, сидевший рядом со мной, но я его не слушал. У меня перед глазами маячило напряженное лицо Маркова, умолявшего отпустить его, чтобы их отыскать. Я налил вина в стопки и предложил:
— Выпьем за нашу встречу!
Солдаты чокнулись со мной. Пили они глоточками, как будто мое присутствие тяготило их, лишало дара речи.
— Солдат должен быть героем и за столом, — не сдержался я. — Не спрашиваю вас ни о том, почему вы оказались здесь, ни о том, как вы выбрались из казармы. Увидел знакомые лица и подсел к вам.
Первым нарушил молчание человек в гражданском. Он встал, и только тогда я узнал бывшего подпоручика Чараклийского.
— Ну, раз начальство здесь, давайте выпьем за его здоровье и его успехи.
На меня нахлынули воспоминания, и все время в них вплеталось вот это лицо с тонкими черными усиками и какими-то птичьими глазами.
Когда меня арестовали в сорок втором году, он вел предварительное следствие по моему делу. Такое не забудется. Потом, уже на фронте, он пытался увести свою роту к немцам. Мы узнали об этом, но и немцам стало ясно, что нам известно, и тогда по их роте ударили с обеих сторон. Перепуганный Чараклийский метался из одной стороны в другую и наконец бросился с уцелевшими солдатами к нам.
Он выжил. И вместо того чтобы оказаться на скамье подсудимых, сделался героем. Командующий армией лично вручил ему орден за храбрость.
Я поднял глаза.
Чараклийский все еще держал стопку в воздухе и ждал. Поднялся со своего места и я.
— За нашу встречу, господин подпоручик. Вижу, что в вас не умирает любовь к армии.
Я чокнулся с ним и выпил вино до дна. И он выпил свое вино. Только стопки солдат остались стоять на столе нетронутыми.
— У вас хорошая память, — заговорил Чараклийский.
— И приятные воспоминания, — дополнил я и уже тише продолжал: — А вы знаете, что эти солдаты из моего батальона?
— Предположим, знаю.
— А знаете ли вы, что уже не сорок пятый год, а война давно кончилась?
— Не спорю.
— Но я готов спорить, Чараклийский. Не знаю, как вы познакомились с этими ребятами, и не буду их об этом расспрашивать, но запомните: пока эти солдаты служат под моим командованием, они не станут вашими друзьями. Вы меня поняли?
— Вы хотите этим сказать...
— Что за этим столом вы лишний. У нас с ними предстоит служебный разговор.
Чараклийский попытался найти поддержку у солдат, но те уставились в пол и не шевельнулись. Может быть, они не все поняли из нашего разговора, но им стало яснее ясного, что в этот вечер им предстоит решить, с кем они: с Чараклийским или с подпоручиком Павлом Дамяновым.
В руке Чараклийского остались лишь осколки от стеклянной стопки. Он еще раз окинул беспомощным взглядом окружающих и, не сказав больше ни слова, покинул трактир.
Я снова наполнил стопки. Мы молча выпили.
— Товарищ подпоручик, — заговорил ефрейтор, но я не дал ему сказать больше ни слова.
— Грязью можно изуродовать даже хрусталь, — сказал я и посмотрел ему в глаза. Может, они хотели что-то сообщить мне, но я продолжал: — Мы с вами солдаты, рожденные нашей родиной.
— Мы это поняли, и потому...
— Ничего вы не поняли. А сегодня вечером у меня действительно есть повод пить. Мне радостно, оттого что я сижу за одним столом со своими