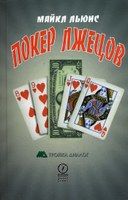– А? – Раиса вздрогнула. – Нет, Люда, не видела я Веронику. Ищи сама.
Больше всего Лелик любил рисовать птиц. Чем неярче птичка, тем лучше. Вглядываешься в нее, маленькую, неказистую, и вдруг словно второе зрение открывается: начинаешь видеть за этой неброской оболочкой такую красоту, что дух захватывает. Столько оттенков серого! От пыли землистой до речного серебра. А каштановые шапочки, а тончайшей прорисовки ореховые перышки на грудке! А переходы мастерские от акварельной прозрачности до маслянистой черноты!
Лелик не знал, существует ли бог, но был уверен: если он есть, то он – художник.
Когда рисуешь, как будто заново создаешь чудо. Оно не исчезнет больше, останется с тобой, и пока ты способен водить карандашом по бумаге, его у тебя не отнимешь. Может умереть мама. Отец не захочет разговаривать с тобой. Но за грифелем по шершавой поверхности тянется контур перышка – и рождается птица, а с ней целый мир.
Рисовать лучше всего лежа на подоконнике. Напротив окна – слива. Днем ее облюбовали зеленушки, а по утрам прилетают малиновки с огненными грудками. Пара этих сказочных птичек распевается с восходом солнца. На их оливковых спинках взъерошенные перья, серые брюшки пушисты, как у котят. Жаль только, что далеко они, толком не разглядишь.
Лелик нашел у деда атлас птиц, перерисовал малиновку. Бабушка увидела, ахнула, выпросила картинку себе – вставить в рамку и повесить на стену. Прохор тоже одобрил. «Талант!» – сказал.
При всех, между прочим, за завтраком.
Лелик – человек дотошный. Счел необходимым уточнить:
– Не талант, а способности. Но я их развиваю, и, на мой взгляд, вполне успешно.
Вениамин хмыкнул. Тетя Люда замечание сделала:
– Его хвалят, а он возражает! Ну и воспитание!
– Если бы я сам нарисовал малиновку, тогда было бы здорово, – пояснил Лелик. – Но я ведь просто скопировал чужое.
– Почему же не нарисуешь?
– Далеко она, – с сожалением признал Лелик. – Надо, чтобы поближе.
– А с фотографии срисовать?
– Не то!
– Перфекционист! – то ли осудила, то ли похвалила Тамара.
– Самостоятельный! – снова прорезался Прохор, и все почтительно замолчали. – Ни у кого на поводу не идет! Вот я смотрю: ты, Женька, не хочешь купаться, а по моей просьбе все равно в воду лезешь. И Пашка тоже. А Лелик не хочет – и не лезет! Уважаю! Кремень!
«Вот те раз!» – промелькнуло на некоторых лицах. Ай да разворот партийного курса на сто восемьдесят градусов.
Лелик ощутил себя так, будто на голову ему внезапно нахлобучили корону. Во-первых, все смотрят! Во-вторых, на голову давит тяжестью. Ну и уши покраснели, это уж как водится.
Он уткнулся в свою тарелку с кашей и пристального взгляда Пашки не заметил.
Пару часов спустя в дверь осторожно постучали.
– Да-да, – рассеянно отозвался Лелик.
Вошел Пашка в куртке.
– Чего тебе?
– Извиниться хотел. За вчерашнее.
Лелик отложил книгу. Подозрительность сменилась удивлением. Извиниться?
– Ты правильно сказал. – Пашка присел на корточки у двери, как будто не смел пройти дальше. – Нравится мне твой батя. И я к нему, ну, того. Короче, хотел, чтобы он ко мне тоже со всем расположением.
– Подлизывался!
– Есть немного, – с улыбкой согласился Пашка. – Мои-то оба в духовной жизни, как в облаках. Медитируют там, то-се. Не, ты не подумай, они хорошие! Просто скучные. А с твоим батей прикольно.
Лелик по-прежнему смотрел настороженно, ожидая подвоха.
– А тут я прикинул, каково тебе все это видеть, – так же спокойно продолжал Пашка. – Как будто у тебя родного отца отбирают, да? Я б, наверное, вообще убил за такое. Если б кто-нибудь подъехал к моему папаше с такой темой, что, типа, хочу с тобой на коврике кверху задом торчать и мычать по утрам, я бы ему рыльце подрихтовал. И плевать на карму! Так что я тебя понимаю.
Он выпрямился.
– Короче, это. Не держи зла, ага? Я не из вредности, а просто… По глупости, что ли. Ну и нравилось, что меня хоть кто-то принимает в расчет. Для моих-то, честно сказать, я дурак дураком. Учусь паршиво, с йогой у меня не заладилось, талантов никаких нету… Ты вон рисуешь! – Пашка уважительно кивнул на раскрытый альбом. – Круто. Художники большие деньги зарабатывают. А я как кобыле пятая нога. Ни к чему не пригоден.
Лелик хотел сказать, что он рисует не затем, чтобы большие деньги зарабатывать. Но Пашка стоял, ссутулившись, опустив голову, и мальчик внезапно почувствовал жалость. Он отчетливо увидел, насколько Пашка чужой в своей семье, и в эту секунду осознал, до чего все они – чужие своим родителям. И Тишка, и Вероника с Женькой, и его собственный отец… Как будто их нарочно раздали таких, наиболее неподходящих друг другу, и обрекли всех любить и мучиться от непонимания.
Но зачем? И что теперь с этим делать?
Потрясенный своим прозрением, Лелик даже забыл о Пашке. Ему казалось, что он стоит перед чем-то огромным, перед открытием, к которому не готов. Хотелось крикнуть неизвестно кому: «Хватит! Я слишком маленький для этого!» Но внутри чей-то голос, взрослый, умный, сказал ласково и грустно: «Вы все слишком маленькие» – и Лелик увидел не своим, а чьим-то другим зрением несчастного отца: седого, взрослого, тщетно пытающегося разглядеть в единственном сыне черты умершей жены.
Но Лелик – копия бабушки Раисы в детстве.
Даже этого утешения папе не дали.
«Сходи ты с ним на эту глупую рыбалку, – сказал голос. – Он же будет счастлив. Что тебе стоит?»
Дурак я, дурак, сказал себе Лелик. Бедный папа.
– Слушай, я еще чего зашел-то… – Пашка почесал нос.
Лелик вздрогнул и непонимающе посмотрел на него. За прошедшую минуту он пережил столько, что совсем забыл, с кого все началось.
– В знак примирения, типа! Порадовать тебя хотел.
Пашка сунул руку в карман, вытащил что-то… Сделал два шага к мальчику и разжал кулак.
В грязной ладони лежала мертвая малиновка.
Это была одна из тех двух птичек, которых Лелик видел на сливе. Рыжая огненная грудка, пушистые перышки на брюшке. Крошечные лапки скрючены, как старушечьи пальцы. Пленка на глазах.
– Дарю! – с широкой улыбкой сказал Пашка.
Лелик, окаменев, смотрел на существо, которое еще час назад было воплощением красоты. Оно жило, пело, оно было каплей прекрасного мира, и мир отражался в нем.
– Как? – одними губами шепнул Лелик.
Пашка по-своему понял его.
– Да из рогатки. Делов то!
Мальчик перевел взгляд с жалкого окоченевшего тельца на скуластое лицо, расплывшееся в довольной ухмылке.
Когда наверху загрохотало, Раиса вздрогнула и обратила взор к потолку. Опять Прохор что-то затеял?
Пару секунд было тихо. А затем донесся крик, полный боли, и снова что-то громыхнуло, ударилось, закричало и полетело в тартарары.
Когда Раиса подбежала к дверям, там уже толпились остальные.
– Ох ты ж господи! – охала Люда, прижав ладонь к губам. – Мальчики! Алешенька!
Перепуганная Рая заглянула внутрь. Паша сидел у стены, вытирая кровь с перепачканного лица. Вырывающегося Лелика с белыми от ярости глазами едва удерживал отец.
– Да я что… – бормотал ошарашенный Пашка. – Я ничего! Я как лучше хотел!
Лелик ничего не отвечал, но выдирался с такой отчаянной силой, что, казалось, вот-вот вырвет себе руки.
– Ты его избил? – хмуро обратилась Женька к Паше.
– Я его пальцем не тронул! Только птичку ему принес. А он как кинется!
– Да угомонись ты! – рявкнул на сына Юра.
– Как будто взбесился!
– Лелик! Что с тобой?
Юра, кажется, едва удерживался от оплеухи. Он не понимал, что нашло на его тихого болезненного сына, и даже испугался силе этой ярости, непонятно откуда взявшейся в тщедушном тельце.
– Держи его, Юрочка! – кудахтала Люда. – Надо успокоительное! Принесите кто-нибудь валерьянку!
Из угла поднялась маленькая фигурка. Раиса только сейчас заметила Тишку, все это время что-то рассматривавшую на полу.
– Ты ее убил!
Звонкий голос прозвучал как пощечина. Все замолчали.
– Чего? – изумился Пашка.
– Ты убил птицу!
– Ну да… Он же сам сказал утром, что не может ее зарисовать, потому что она далеко! Вот я и постарался…
– Ах вот в чем дело! – Юрий наконец все понял и испытал облегчение. – Паша, ты принес ему птицу, чтобы он мог ее нарисовать с натуры! Да хватит дергаться! – это уже Лелику.
Пашка почти испуганно посмотрел на окровавленную ладонь.
– Рогатку сделал… – бормотал он. – Выслеживал ее. Как лучше хотел, честное слово! А чего случилось-то? Леш, за что ты меня?
Всем стало неловко. Этот большой побитый парень поскуливал, как собака, и был так явно расстроен и испуган происходящим, что молчаливо рвущийся к нему Лелик казался воплощением беспричинной злобы.
– Правда, нехорошо вышло, – подала голос Женька.
– Я как лучше хотел… помириться думал…
– Врешь! – выкрикнула Тишка. – Ты это нарочно!
– Чего-о?!
Девочка сжала кулаки и шагнула к Пашке: