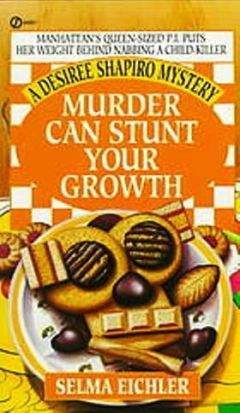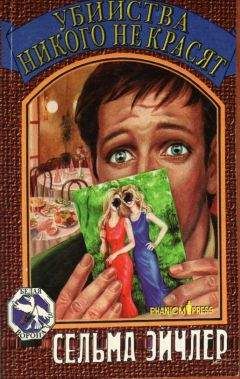– В таком случае, мы немедленно его выпишем.
– Без надобности. Я уже сделал это. Итак, остался последний. Видите? Никакой хитрости. Банальный естественный отбор.
...
При мысли об эволюции мы видим заботливую силу, которая трудится над организмами, делая из них совершенство. Примат умнеет, берет мотыгу и гордо поднимается с четверенек. Мало кому видится кровавая борона, рыхлящая биомассу. Природе наплевать и на себя, и на своих защитников.
Я очнулся лишь тогда, когда маятник эволюции просвистел рядом, двинул мне в челюсть и раскромсал губу. Он забрал троих ночных уродцев и понесся дальше, но я знал – он вернется. Любой маятник возвращается.
Если от тебя нет пользы, ты первая мишень. Иммунная система мира ищет возможности избавиться от лишней детали, пока она не принесла вреда.
Конец любой вещи начинается с первой царапины.
Люди перестали меня замечать. Поэтому я и мотался по улицам, пытаясь найти себе место.
У площади стояла древняя обглоданная старуха, похожая на охапку бурого тряпья. Во мне сработала установка: нужное дело – значит, хорошее. Подать нищей – это хорошо. Скорее, чтобы не передумать, я бросил в ее жестянку сто долларов. Мои последние сто долларов.
И секунды две мне казалось, что дело сделано.
Потом старуха рассмотрела деньги и повисла на моей руке мягким грузом.
– Мало, сынок, мало! – запищала она птицей. – Мало, сынок, мало, мало…
Я вырвал руку и побежал сквозь пешеходный ливень. И смог остановиться только спустя два перекрестка.
Так я истратил почти все деньги.
Отныне мне страшно было иметь дело с нищими. Я шатался вдоль скамеек и витрин целый вечер, пока в голову не пришла еще одна идея.
Эти парни и девочки, которые раздают листовки – они топчутся на улицах и в переходах по двенадцать часов в день, пытаясь избавиться от своих бумажек, приставая к безучастным прохожим, стараясь улыбаться или хотя бы не хмуриться. Взять у каждого из них по буклету – как милостыня наоборот. И не придется отдергивать руку, боясь, что ее схватят мерзкие требовательные когти.
Так я нашел себе занятие. День за днем я шел через город, собирая урожай из раздавашек, буклетов и флаеров, трамбуя их в кулаке, пока мог удержать. Потом выбрасывал, и всё шло прекрасно. Мне говорили «спасибо», мне улыбались. Вплоть до сегодня, когда одна девушка протянула мне рекламу какой-то парфюмерии.
Привычным движением я взялся за липкий глянец, но девчонка рванула листок на себя так резко, что мы качнулись друг навстречу другу.
– Э-э… – начал я и осекся, рассмотрев ее. Девушка была совсем маленькой. Взбитые каштановые волосы. Дешевое крикливое платье. Слишком высокие сандалии на каблуке. Она беззвучно плакала, и под ее глазом чернело густое пятно.
– Господи, тебя что, ударили? – спросил я. Трудно было поверить в это, но я сам накануне обзавелся раздутым ухом и соленым шершавым рубцом под нижней губой.
Девочка помотала шапкой завитых волос. Нет.
– Это… – тихо булькнула она в заложенный нос. – Это тушь просто… Молодой человек, вы не проводите меня домой?
Ее звали Эврика. То есть, Эвридика, сказала она. Мы брели по улице, и девчонка неудобно держала меня выше локтя, постоянно меняя хват. И журчала сонным заплаканным голосом, рассказывая куда больше, чем мне было интересно знать.
Она расстроилась из-за парня, который вообще был очень классный, но украл ее золотую цепочку, которую сам же подарил, еще когда они начали встречаться.
– Я говорю – ты ее взял, а он такой – нет, я не брал. Я говорю – а что в кармане? А он такой, говорит «не порть себе впечатление». Он вообще при деньгах, он какой-то директор в ночном клубе. Его зовут Фернандес, может, ты его даже и знаешь.
И вышло так, что я знал. Когда-то я общался с этим Фернандесом. И да, он запросто мог снять цепочку с ее шеи.
– Главное, это когда мы целовались, ты представь только!
И я решил не говорить Эврике, что знаком с ним.
Когда мы свернули на тропинку возле ее дома, Эвридика оступилась и подвернула каблук. Я поймал ее за талию, и Эврика погладила мое плечо тонкими пальцами. Даже в полумраке летнего вечера было видно, что путь не кончится у ее подъезда. Эта дорога вела прямо домой к Эвридике, куда-нибудь на диван, где будет чай и глупые фотографии, а потом сумерки затопят комнату, и мы останемся вдвоем до утра.
К моему счастью, лифт где-то застрял, и пришлось идти по лестнице, медленно взбираясь по ступенькам. Эврика хромала впереди прекрасными загорелыми ножками, и у меня ниже пояса всё затвердело так, что двигаться стало трудно.
У самой двери ее квартиры я понял, что не смогу. Притронуться к Эвридике сейчас было так же невыносимо, как остаться в тесной кабине лифта.
И мы распрощались тогда, как мне казалось – насовсем.
Вместо того, чтобы утешать Эврику в постели, я решил завтра пойти к Вернадскому и хотя бы уговорить его извиниться.
«Так будет правильно», – думал я. Это будет нужное дело.
Сейчас мне куда больше известно о правильных и нужных делах.
...
Самолет засвистел, вздрогнул и тронулся с места, подпрыгивая на стыках, а Максим до сих пор не верил, что он взлетит. По ту сторону иллюминатора вид совершенно не изменился – на эти огни и вышки Макс уже насмотрелся из автобуса.
После двух недель беготни, разговоров, нервов, затхлого ОВИРа и турникетов консульства трудно было просто откинуться в кресле и ждать. Тем более, они с Лизой последние три часа проторчали у терминала: рейс оказался чартерным (Максим так и не понял до конца, что это значит), и за точное время отлета никто поручиться не мог, тем более – в праздник. И тем более, в такую облачность.
Мягко вздрогнув еще один раз, самолет вырулил на полосу.
«Наконец», – успел подумать Макс, но они лишь повернули и покатились вдоль цепочки ярких огней.
– Какого черта, – буркнул Максим в ухо Лизе. – Он до самого Франкфурта вот так ехать будет?
Лиза промолчала. Она редко говорила с ним после того вечера, и только по своей прихоти. Макс, передай Бергалиевой, что без отпуска я не согласна. Макс, выясни, как поживает мой загран. Макс, помоги мне заполнить анкету.
Он рад был даже этому. Когда Бергалиева проглотила идею фальшивых эфиров, уже после того, как Члеянц неожиданно вызвался помочь, Максим почти решил, что прощен. Они с Лизкой две недели по шестнадцать часов торчали в студии, записывали и нарезали выпуски, тасовали актеров, – настоящих гостей в эту аферу звать было опасно, – придумывали ход «голосований в реальном времени». Приходилось учитывать каждую мелочь: всякий идиот у телевизора должен был верить, что видит Элизу в прямом эфире, и что его голос в интернете немедленно попадет на экран. Четыре выпуска. Публика остается в дураках на целый месяц. На большее телеканал не согласился бы.
«Все равно неплохо», – думал Макс. Так им, уродам, и надо.
Стремительный рывок оборвал его мысли. Турбины загудели как огромная сушилка для волос, и самолет ринулся вперед, набирая скорость. Он несся так быстро, что стало трудно дышать.
– Ого! – крикнул Максим. Он чувствовал себя ребенком на аттракционе: долгое ожидание, внезапный металлический рык, и небо уже летит навстречу, а земля падает вниз. Макс думал, что боится летать, но теперь, едва попробовав, решил, что страх пойдет на хер. Самолет лег на крыло, и в иллюминатор заглянуло море столичных огней, безмятежное с такой огромной высоты. Светлячки текли по дорогам, рябили на ветру и мерцали до самой кромки горизонта, где смыкались низкие облака.
Лиза что-то сказала.
– А? – в уши Максима словно набилось ваты. Он сглотнул, и слух вернулся, но лишь на секунду.
– Раздавишь меня! – повторила Лиза ему в ухо, и Макс отчаянно заерзал, пытаясь сесть вертикально.
Самолет выровнялся, и городские огни заволокло туманом.
«Тучи», – ошалело подумал Макс. Вот они какие изнутри, тучи.
Он снова дважды сглотнул. Тряска прекратилась, и в салоне теперь было относительно тихо.
Булькнул и погас сигнал на табло. Можно отстегнуть ремни. Максим посмотрел на Лизу и чуть не рассмеялся, потому что она улыбалась. Впервые за… даже не вспомнить, за сколько.
– Спасибо, – сказала Лиза.
– За что?
– Что меня вытащил.
Макс не знал, как ответить ей. Он набрал воздуха, подбирая слова вроде «что угодно для тебя»… нет, «всё ради тебя»… и тут дымные облака позади нее расступились, и в тесный иллюминатор ударило солнце, чистое, пронзительно яркое, и Максим сразу лишился мыслей.
– Я, в общем, – он прикрылся рукой, но фиолетовый диск остался гореть перед глазами. – Я хотел сказать… еще раз, по поводу Светланы… короче, на сто процентов – тогда ничего не было.
– Ну хватит, – Лиза нахмурилась и отвернулась к иллюминатору.
– Я тебе серьезно говорю…