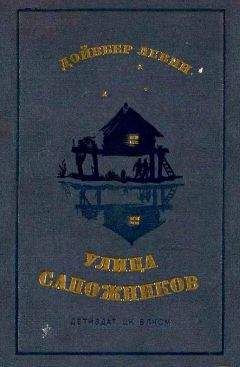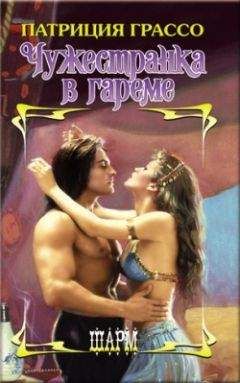— Эге! — многозначительно крякнул он. И, не выпуская Ирмэ, крикнул: — Свистунов! Вавилов!
Ирмэ похолодел. Пропал.
— Свистунов! Вавилов!
— Бегим, — отозвались с опушки два голоса.
Попался, рыжий. Пропал.
Вдруг, сам не понимая, что делает, — Ирмэ извернулся, пригнулся и зубами — цап унтера за руку. Вцепился и стиснул.
— Ух ты! — Унтер взвыл и вырвал руку.
Ирмэ кинулся к бараку.
— Стой! Стой! — кричали ему вслед голоса. — Стой! Стрелять буду?
Ирмэ, обогнув барак, оглянулся: слева — поле, справа — лес.
«В лес надо!» понял Ирмэ.
Раздался выстрел. Другой. Но уже Ирмэ бежал, хромая, по лесу, и пули шлепались о деревья, но задевая его.
Тихо в лесу. Большие сосны стоят прямо, как мачты. Под соснами земля усыпана колючими иглами. Вьется мох. Растет трава. Топь. Прохлада. Пахнет хвоей и смолой. Тишина. И в тишине слышно, как стрекочет кузнечик, жужжит шмель. Вот птица крикнула. Вот хрустнул сучок.
Ирмэ шел все дальше и дальше. Лес расступался перед ним, неожиданно открывая то мшистую полянку, то ручеек, то поваленный бурей и уже сшивший ствол.
«Ну и ну, — думал он. — С этими с бумажками — да к австрийцам, к пленным. Ох, суешься ты, рыжий, чорт-то!»
Ко вокруг все было спокойно: над головой — высокие сосны, под ногами — чахлый мох. Зеленый сумрак. Тишина.
«Ну, ладно, — подумал Ирмэ. — Другой раз буду умней».
Он осмотрелся. Хорошо как. И сосны. И сумрак. И запах смолы.
«Вот бы где пожить, — подумал он. — Выстроить бы где на поляне дом и жить себе. Хорошо!»
Он вышел на муравьиную тропу. Муравьи облепили его ноги, лезли вверх, забирались в карман. «Муравейник близко», понял он. Поискал — и верно: в тени у поваленной сосны — большой муравейник. Шагах в десяти — другой, поменьше.
Ирмэ подошел поближе, наклонился, посмотрел и засмотрелся, прямо оторваться не мог. Здорово!
Узкие, почти незаметные ходы вели внутрь. По этим ходам сновали муравьи, тысячи тысяч. И народ все деловой, хозяйственный: этот вот тащит соломинку, тот вон волочит куда-то дохлую муху. И порядок: торопятся будто, спешат, а встретятся — разойдутся, уступая друг другу дорогу: пожалуйста, проходи.
«Скажи ты! — удивился Ирмэ. — Понимают».
Он взял с одного муравейника горсть муравьев и кинул их на другой. Что началось! Драка. Побоище. Вдруг, схватив чужаков за ноги, хозяева по внутренним ходам поволокли их куда-то вглубь.
«В плен взяли, — подумал Ирмэ. — Так. А вот как у них там пленные? Тоже вроде наших — канавы роют? Пли как?»
Он проткнул муравейник толстым суком, разворотил всю кучу до основания. Внизу, у самой земли, муравейник был разбит на клетки. В одних — сидел зеленоватый немощный скот муравьев — тли, в других — лежали муравьиные выводки.
«Пленные-то где же?» подумал Ирмэ.
И вдруг услыхал шаги, грузные, тяжелые шаги, будто буйвол ступает но веткам. К муравейнику подходил кто-то, судя по голосам — двое: один голос — сиплый, простуженный, другой — мягкий, певучий.
«Вот еще! — подумал Ирмэ. — Несет кого-то нелегкая».
Он стал за деревом и притих. Не охрана ли? Нет, не охрана. Солдаты, но другие, не те. Страшные какие-то, дикие: шинели грязные, рваные, на ногах — дырявые сапоги, и ни подсумков, ни винтовок.
Впереди шел костистый дядя, меднолицый, чернобородый, похожий на цыгана. За ним — молодой солдат, совсем мальчишка, небольшого роста, в длинной до пят кавалерийской шинели. Ступали оба тяжело, через силу. Шли они, видимо, давно и совсем выдохлись. Пот темными каплями стекал со лба к подбородку, а глаза и у того и у другого были задавшие, настороженные. Глаза затравленных зверей — волчьи глаза.
«Дезертиры», понял Ирмэ и испугался. В Рядах в последнее время много плели о дезертирах: ходят-де шайками и с голодухи и со страху нападают на проезжих, грабят и режут.
Черный дошел до муравейника и сердито пхнул его ногой.
— Паразиты, — просипел он и плюнул.
Ирмэ знал — бояться ему нечего. Что они ему сделают? На что он им дался? Однако от «страха зубы стучали.
«Сейчас увидят, — думал он. — Уйти бы. Уйти бы надо».
И сделал шаг влево. Один шаг — и сейчас же назад. Сухие ветки под ногами захрустели на весь лес. Ирмэ вздохнул: все, не уйти.
Солдаты услыхали шорох, треск, вздох и быстро, по-звериному скакнули назад.
— Кто? — прохрипел черный.
Ирмэ не ответил.
— Кто?
— Погоди, Ермил, — сказал второй. — Может, зверь какой?
— Уйди ты! — просипел черный. — Кто там? Выходи.
Ирмэ молчал.
Вдруг черный чуть подался вперед, как-то сморщился, скривился, подмигнул.
— Молчишь? — проговорил он тихо и как бы дружелюбно. — Молчишь, шкура? Соглядаешь? Гляди, гляди, чтоб те окриветь, — и совсем шопотом — бей, ну! Стреляй! Стреляй, говорю!
Он подождал, глядя на дерево, за которым стоял Ирмэ, дикими глазами. Ирмэ не пошевелился. И вдруг черный сжался как-то, сник. Он повернулся и, ступая тяжело, как буйвол, пошел вглубь леса. Второй, часто оглядываясь, побрел за ним.
Ирмэ погодил, пока их совсем не стало слышно.
«Надо выйти на дорогу, — подумал он. — Тут-то видишь какие».
Он шел долго, шел наугад, сворачивая то вправо, то влево. Пойдет по тропинке, дойдет до тупика — до болотца, до топи — и повернет. Туда-сюда. Нет дороги.
И тут услыхал тягучий с подголосками гудок. Он пошел на гудок и вышел на железнодорожный путь, проложенный среди леса. Подходил поезд. Из глухо и чащи — весь в дыму — вынырнул паровоз, а за ним тянулся длинный ряд вагонов. Поезд с шумом, с лязгом, с гулом пронесся мимо Ирмэ и пропал. В лесу после этого стало совсем тихо.
«Вот куда забрел, — подумал Ирмэ. — На железную дорогу!»
По путям проходил сторож, бритый, худой старик в мятой студенческой фуражке.
— Здравствуй, — сказал Ирмэ. — Как пройти на Горы — не знаешь?
Сторож ответил не сразу. Он подумал и сказал:
— На Гусино, может? — сказал он. — Тогда — прямо, по путям.
— Нет, — сказал Ирмэ. — На Горы.
— Лесом, — сказал сторож и пошел дальше.
— Голова, — проворчал Ирмэ. — Я и сам-то знаю, что лесом.
Однако делать нечего — пошел. Через час он вышел на дорогу. Посмотрел и плюнул, — Малое Кобылье!
«.Чадно, — решил он. — Пойду в Ряды. Сегодня-то переночую. Ничего не будет. У Алтера и переночую. А на свету — в Горы».
Еще за версту Ирмэ увидел, что в Рядах что-то не то. Не узнать было Ряды. За этот день у местечка, выросло новое местечко, белый полотняный городок. На берегу Мереи, от моста до Глубокого, стояло штук триста высоких фургонов. У самой воды горели костры, десятки костров, так что над рекой стоял дым, густой, как деготь. Над кострами висели котелки. В котелках кипела вода.
«Цыгане или беженцы?» подумал Ирмэ.
Оказалось — беженцы. Однако сколько их! Мужчины, женщины, дети, старики, старухи. Да-а, народу! Голые младенцы гонялись за собаками. Собаки визжали и лезли под фургоны. Женщины полоскали в реке белье. Мужчины таскали солому и сучья для костров. А на местечковом берегу толпились рядские. Они вздыхали, ахали: «Неуж и нам так-то придется? Господи!»
У моста стоял старый, дырявый фургон. На траве у фургона сидела старуха, держа на руках девочку лет шести. Старуха осторожно гладила ее по голове, кутала в шерстяной платок, и не то говорила, не то напевала ей что-то. Но девочка не слушала. Девочка металась, бредила.
— Баб! Дождь! — кричала она, хотя погода была ясная и небо было синее.
Ирмэ подошел и сказал:
— Тиф?
— Должно, тиф, — проскрипела старуха.
— Внучка, что ли?
— Внучка, — сказала старуха. — Родной дочки дочка. Дочку-то на дороге сховала. А теперь вот Дуню. — Старуха заплакала.
— Тихо ты, — сказал Ирмэ. — Девочку растревожишь.
— Да ей все одно, — сказала старуха. — Огнем горит. Помирает она. — Старуха завыла в голос. — Ой, бож-жа мой!
Пожилой беженец, с рыжеватой бородкой, в поддевке и в картузе, давно уже подмигивал Ирмэ, манил его пальцем, — подойди-ка.
Ирмэ подошел.
— Молодой человек, — сказал беженец, — не знаешь, где тут можно — того? — Он щелкнул себя по горлу.
«Так я тебе и сказал, — подумал Ирмэ. — Еще с тобой потом запаришься. Шиш».
— Нет, — сказал он. — А что?
— А выпить охота, — сказал беженец.
— Брось, — сказал Ирмэ. — Лучше бы хлеба купил.
Беженец безнадежно махнул рукой.
— Все одно, — сказал он. — Пропадаем же, видишь? Всё, брат, прахом. А выпить треба.
— Трудно это, — сказал Ирмэ. — В местечке-то навряд. В деревне, может, найдешь. Из мужиков многие гонят.
— Плохо, брат. — Беженец заскучал. Он стал сворачивать цыгарку, но видно было, что думает он не о цыгарке. — Совсем, знаешь, никуда.
— Ну, как там? — спросил Ирмэ. — Что делается?