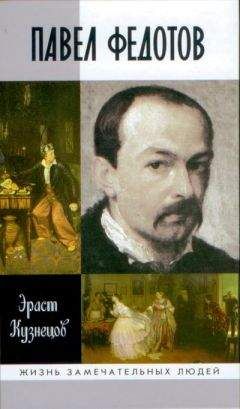Судьба «Игроков» сложилась еще драматичнее, чем судьба «Анкор, еще анкор!»: затерявшаяся в частном собрании, она долго оставалась попросту никому не ведома. Может быть, и на благо, потому что понять ее было некому и самое большее, что она могла возбудить, — это жалостливая снисходительность к больному художнику. Даже в воспоминаниях самых близких друзей (того же Дружинина) она окружена загадочным молчанием: ни слова, ни звука, ни намека, словно ее вовсе не было, словно не бился над нею Федотов, не делал натурных рисунков, не искал, не мучился, словно выскочила она вдруг сама собою откуда-то.
Замах был слишком уж велик; содержание картины еще не смогло, или, может быть, не успело отыскать себе полноценное и подходящее выражение и пыталось утвердиться в тех привычных формах, из которых, в сущности, успела вырасти. Приемы строго реалистического бытового жанра, с психологически обоснованным повествованием, насыщенным достоверными деталями, — те приемы, которые сам Федотов, собственно, и породил, и утвердил, и пустил в оборот для не одного поколения своих наследников, стали уже тесны для его таланта. Преодолев их, он, и так далеко обогнавший своих современников, шагнул бы в искусство XX века; в сущности, в своих рисунках он уже подошел к тому. Смог бы он совершить и этот шаг, продлись хоть немного его жизнь? Нет ли предела удивительным возможностям художника опережать свое время?
Жизнь не продлилась. В начале июня 1852 года Федотов оказался в сумасшедшем доме.
В сущности, Федотов был человек обреченный.
Он был обречен в самом буквальном смысле. Болезнь, принесшая ему безумие,34 а вслед за безумием и смерть, болезнь, почитавшаяся вместе с чахоткой болезнью прошлого века, пожравшая Мопассана, Ропса, Малера, Врубеля, болезнь эта гнездилась в нем, как мина, подведенная саперами под башню и ждущая своего часа. Годом раньше, годом позже, но она должна была взорваться, нужен был только запаленный фитиль — толчок.
Он был обречен собственной творческой судьбой, невероятной стремительностью своего развития, обращавшей его даже не к завтрашнему, а к послезавтрашнему дню отечественного искусства и не оставлявшей ему места в дне сегодняшнем. Судьба, пославшая раннюю смерть, оказалась милосердна к нему: он не успел вкусить от горчайшего плода непонимания, забвения и одиночества, поджидавших его, если бы его жизнь продлилась хотя бы на несколько лет. Как бы он существовал рядом с художниками, которых обогнал уже сейчас? Как смотрели бы они на него — шестидесятники во главе с Перовым, семидесятники-передвижники во главе с Крамским — как на отступника, предавшего обличительное направление, отказавшегося от собственного «Сватовства майора» ради «Вдовушки», «Анкор, еще анкор!», «Игроков»? Нашелся бы ум, способный вознестись над общественными потребностями текущего дня и оценить поздние федотовские прозрения?
Он был обречен, наконец, своим страшным временем, с фанатической последовательностью душившим все, что ни зарождалось мало-мальски живого и свежего в русском обществе, что осмеливалось «поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром», — сводя в могилу, подводя под пулю, засылая в тюрьму, в казарму, на каторгу или в сумасшедший дом, и имя его пополнило пространный мартиролог николаевской эпохи.
Странная мысль написать самого себя в виде сходящего с ума игрока была пророческой в своей безумности.35 «Накликал» — сказали бы в старину. «Угадал» — скажем мы.
Что же стало толчком? Мысль об усталости является первой, она и в самом деле оказалась первым и самым распространенным объяснением случившегося весной 1852 года. Федотов совершил слишком много для человека, у которого на всё про всё только одна голова, одна пара рук и одна жизнь, да и та безобразно укороченная.
В течение многих лет он был вынужден во всем полагаться на себя одного, быть для себя и учителем, и советчиком, и судьей — такое не проходит даром.
Прежних сил, прежнего здоровья действительно стало не хватать, и настолько, что он уже не всегда мог это скрыть от окружающих. «Нет у меня больше энергии», — в сердцах пожаловался он как-то. Все чаще мучили его приливы крови к глазам и затяжные головные боли. Не на шутку беспокоили глаза, он лечил их собственным доморощенным средством, прикладывая тряпочку, смоченную холодной водой пополам с белым ромом. Пустячная простуда, полученная от форточки, неудачно оказавшейся над головой, — он привык не обращать внимания на такие мелочи, — сейчас способна была на неделю уложить его в постель, с жестоким кашлем и лихорадкой. Уже в начале 1852 года он сильно исхудал, выглядел изможденным и сам признавался, что начинает сдавать.
Но только ли в этом было дело?
Может быть, причиной послужили гонения и преследования, которым подвергался он сам и его творчество? Именно так порою рассуждают. Почитать иные статьи — решишь, что чуть ли не все российское государство, от императора до рядового цензора, только и озабочено было тем, чтобы сжить со света Федотова и, даже загнав его в лечебницу, поддерживать заговор молчания вокруг его болезни, а потом и смерти.36 Однако это не более чем еще один миф.
Начать с того, что все эти годы Федотов исправно продолжал получать свое пособие — пусть скромное, но все-таки выдаваемое ему, в сущности, ни за что, ни за службу, ни за какие-либо иные заслуги перед Российской Империей, а с конца 1850 года заметно увеличенное. Он попал в больницу — и Николай I, по ходатайству президента Академии художеств, распорядился отпустить 500 рублей серебром на его лечение.
Даже цензуре трудно предъявить что-либо. Картины, назначенные к литографированию, она таки пропустила, и в том, что затея Федотова провалилась, вины ее нет. Нелепое требование снять крестик с груди «кавалера» — рядовой и довольно безобидный эпизод в летописи русской цензуры. Во всяком случае, говорить о каких-то особых придирках к Федотову, связанных с характером его картин, а тем более о том, что цензура «не скрывала своей ненависти к нему» (и такое случается прочитать), не приходится.
Имя Федотова промелькнуло в показаниях некоторых петрашевцев, между тем он не был привлечен к следствию даже в качестве свидетеля, в то время как трясли каждого. Но что петрашевцы, которым он все-таки был посторонний, когда его широкоизвестная, расходившаяся во множестве списков по Петербургу и по всей стране (это не преувеличение, а факт, засвидетельствованный современниками) поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора» считалась нецензурной, чего, по николаевским временам, хватило бы, чтобы обрушиться на автора, однако и этого не произошло.