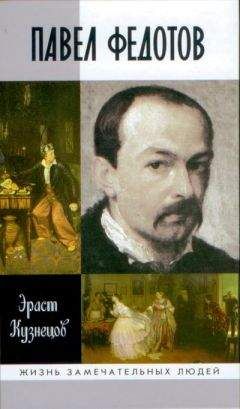Имя Федотова промелькнуло в показаниях некоторых петрашевцев, между тем он не был привлечен к следствию даже в качестве свидетеля, в то время как трясли каждого. Но что петрашевцы, которым он все-таки был посторонний, когда его широкоизвестная, расходившаяся во множестве списков по Петербургу и по всей стране (это не преувеличение, а факт, засвидетельствованный современниками) поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора» считалась нецензурной, чего, по николаевским временам, хватило бы, чтобы обрушиться на автора, однако и этого не произошло.
Наконец, Императорская Академия художеств, единственное казенное учреждение, с которым Федотов более или менее постоянно имел дело, была к нему не то что терпима, но даже благожелательна: почтила званием академика, неоднократно ходатайствовала за него по разным нуждам и безотказно принимала его на свои выставки, бывшие тогда единственным местом, где мог показывать свои работы российский художник. Каждому мало-мальски знакомому с последующей историей русского искусства такая благожелательность должна показаться странной, но тогда академия еще благодушествовала, ослепленная безграничностью своего авторитета, и готова была снисходительно пригревать бытовой жанр, не видя в нем никакой для себя опасности; уже в следующем десятилетии она совсем иначе обошлась с Крамским и его товарищами по «бунту четырнадцати», кстати сказать, достаточно невинному бунту.
Федотову не довелось испытать на себе ничего из того, чем так знаменито его недоброе время — ни ареста, ни заключения в крепость, ни ссылки, ни допросов в Третьем отделении, ни вызовов в полицию, ни тайного или гласного надзора, ни распеканий начальства, ни изнурительной борьбы с цензурой, ни доносов, ни оскорблений, насмешек и разгромных отзывов в печати.
А ведь только тот, кто хоть однажды услышал доносящуюся из прихожей мелодию жандармских шпор, по-настоящему поймет, что обитает в царстве ничем не обуздываемого произвола; только тот, кто хоть однажды пережил ужас толкания в канцелярские двери, по-настоящему осознает, что обитает в диком лесу, вроде ост-индских джунглей, населенных тиграми и крокодилами.
Замкнутость федотовского существования, ограниченного кругом дружеских связей, оставляла его в тени, оберегала его статус сугубо частного лица, живущего своими интересами. Самый род его занятий вызывал гораздо меньше настороженности, чем если бы он был литератором или журналистом. Слово в России всегда почиталось силой более действенной, нежели изображение; слова — произнесенного, а тем пуще написанного — издавна привыкли опасаться, и русская словесность все более давала к тому основания. Не то — живопись, еще ютившаяся под сенью Императорской Академии художеств и затиснутая в казенный мундир: живописец оставался человеком, полностью зависящим от государственной системы и старающимся жить с нею в ладу.
Кроме того, плодя мифы о гонениях на Федотова, мы упускаем из виду весьма существенное обстоятельство. Это для нас он великий художник, реформатор отечественной живописи, родоначальник реалистического направления и прочее. Для официальной России он был всего лишь отставной капитан, занимающийся ради собственного развлечения малеванием картинок, — ничто, букашка, ползающая по отдаленным линиям Васильевского острова, совершенно недостойная какого-либо внимания, даже подозрительности.
Нельзя, впрочем, не признать, что общественное благополучие Федотова, в сущности, висело на волоске. Выходя на простор признания, умножая свою известность, он одновременно разрушал свое тихое убежище частной жизни и фатально приближал тот момент, когда придется расплачиваться монетой, издавна имевшей хождение в России, — испытаниями и даже гибелью. Можно сказать, что он умер вовремя. Еще немного — и власти, до сих пор не удостаивавшие его своей неблагосклонностью, могли обрушить на него все, что полагалось человеку, выпадающему из общепринятого, и тут все стало бы в строку, в том числе и невинные встречи с кем-то из петрашевцев, и поэма, и любое сгоряча произнесенное слово. Еще немного, и Академия художеств отвернулась бы от своего академика: пик их добрых отношений, картина «Сватовство майора», где высокое, в лучшем смысле слова, академическое мастерство было так уместно применено к новым целям, уже остался позади, и лучше не задумываться о том, как были бы восприняты и «Анкор, еще анкор!», и «Игроки», принеси их Федотов на трехгодичную академическую выставку 1852 года.
Быть может, и то и другое испытание он перенес бы. Преследования и травля редко сводят с ума сами по себе, сумасшествие бьет изнутри. И Федотов был не из той породы людей, которых надламывают внешние обстоятельства — гонения, муки, нищета, голод, тюрьма, — как бы они ни были тяжки. Всему этому готовы противостоять российский стоицизм, вера в предначертанный путь и сознание своей миссии в мире. Большую часть своих бед человек носит в себе самом, а обстоятельства внешние лишь высвобождают эти беды или тормозят их высвобождение. Свою беду нес в себе и Федотов.
Таких людей, как он, в разговоре принято называть идеалистами — они болезненно воспринимают всякий разлад между неприглядным сущим и прекрасным должным. Дурно кормленный с детства, запоздало развившийся духовно, он начал свою сознательную жизнь с покойным ощущением душевного равновесия — доверия к порядку, на котором основан мир. Это была отнюдь не светлая пушкинская вера во всеобщую гармонию, способную объять собою все боли, противоречия и катаклизмы вселенной, а доверчивое приятие того, что вкладывалось и вбивалось в его голову с детства, от прописей мещанской добродетели до армейского устава. Мир для юного Федотова был понятен, надежен и разумен в своих основах, он полностью соответствовал тому, что о нем говорили, чему учили, и Федотов был с этим миром в согласии.
Согласие не могло длиться бесконечно — Федотов рос, постепенно поднимаясь над уровнем заурядного гвардейского офицера. Но — горький парадокс — именно те иллюзии и предрассудки, от которых он освобождался, над которыми мало-помалу возвышался, долгое время позволяли ему покойно существовать в немилосердном мире, создавали как бы оболочку, защищавшую его душу. Раздвигая пределы, доступные его внутреннему взору, наращивая «непрерывно и неотвратимо возрастающий ряд противоречий между безобразными условиями судьбы и прекрасными требованиями мозга»,37 он тем самым фатально приближал свой конец.
Картина мира — такая понятная и удобная — постепенно теряла в его глазах свою определенность и мир оказывался ненадежным: зло, с которым Федотов сталкивался на каждом шагу, противоречило тем высшим законам бытия, в которые он так уверовал. Сначала, правда, казалось, что зло это собирается в отдельных, пусть и многочисленных, лицах, которые не хотят и не могут существовать по правде и совести, и оставалась надежда, что их всех — охамевшего чиновника, разнузданную барыньку, лживую девицу, гнусную сводню — удастся осмеять в назидание остальным и тем самым укрепить пошатнувшееся было нравственное равновесие, а вместе с ним и собственный душевный покой. Но чем дальше шло время, тем более зло расплывалось и теряло свою отчетливость, распространяясь все шире; и уже не отдельные люди творили неправедность, а само зло, всеохватное и всесильное, властвовало над ними, находясь и везде и нигде. Корить было некого, счет предъявлять было некому, и с кого ни спрашивай — зла не убудет.