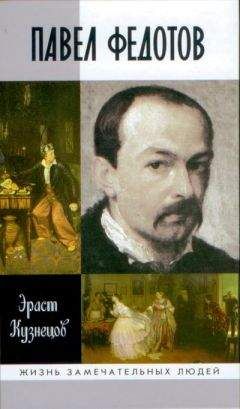Разлад между тобою, неутомимо уходящим вперед, — и временем, все более остающимся позади и перестающим понимать тебя. Разлад между ощущением значительности возникающего под твоей рукой и пониманием своей общественной ничтожности в глазах большинства. Как будто достаточно этого, чтобы свести в лечебницу.
Но был еще разлад, и пострашнее. Если хорошенько призадуматься, так не один Федотов жил в теле отставного гвардии штабс-капитана, а по крайней мере двое: первый из них был человек обыкновенный, добрый и славный Павел Андреич, второй — выдающийся художник; и отношения их были не просты. Сначала второй отставал от первого и семенил за ним, верно служа его нуждам, потом, обласкиваемый и выхаживаемый, стал крепнуть, догонять, наконец и обгонять своего старшего собрата. Родилось «Сватовство майора» — краткий, но поистине миг полной гармонии в жизни Федотова, полного его согласия и с самим собою и с внешним миром. Но этот миг миновал, и Федотов второй продолжал расти и уходить туда, в такие заоблачные дали, куда Федотову первому вход был заказан, и тот сам уже переставал понимать, что и для чего он делает.
Несоразмерность между личностью и даром художника — явление распространенное. Но редко когда она бывает такой кричащей, как у Федотова. Дар, доставшийся ему, был слишком уж велик; может быть, он обладал задатками гения, а то, что не вышел в ряд мировых гениев и имя его не произносят рядом с именами Микеланджело или Рембрандта, — не его вина, а беда всего русского искусства, так мучительно и запоздало выбиравшегося на общую дорогу.
Ноша громадного дара оказалась непосильна Федотову: дар его возвысил над другими художниками, сделал его имя бессмертным, но он же его и раздавил, а болезнь помогла это сделать.
Безумие давно уже исподволь подступало к нему, и если бы не обычная федотовская скрытность, это бы заметили гораздо ранее июня 1852 года. От одного только Коршунова не мог он утаиться, и тот наблюдал за хозяином со все возрастающей тревогой и беспокойством. Однако на людях Федотов держался все так же приветливо и спокойно, казался даже уверенным в себе, все также шутил и отшучивался, хотя иные его шутки и вызывали недоумение.
Спокойствие с каждым днем давалось ему все труднее. Он делался раздражителен, малейший пустяк мог взорвать его или довести до слез. Он не понимал, что с ним происходит, винил во всем нервное переутомление, но сократить работу был не в состоянии — она его уже не отпускала. Он стал избегать встреч, запирался дома, не отвечал на обычный стук в оконное стекло. Или уходил, бродил подолгу по самым безлюдным окраинам Васильевского острова — по Смоленскому полю, по Смоленскому кладбищу, забирался и на остров Голодай — пустынное и уединенное место последнего упокоения казненных декабристов. Там он проводил часы в полном одиночестве, и Коршунов не раз его отыскивал плачущим, доставлял домой и приводил в себя, прикладывая ко лбу мокрое полотенце. Или вдруг подступали непонятные страхи, и он как-то, не выдержав, написал: «Я боюсь всего на свете, даже воробья, и он, пролетев мимо носа, может исцарапать его, а я не хочу ходить с расцарапанным носом. Я боюсь всего, остерегаюсь всего, никому не доверяю, как врагу, затем, чтобы со всеми жить в дружбе, или в ладу по крайней мере…»
Весной 1852 года происходящее с ним стало очевидно для окружающих. Приятель Лебедев, прослушав его последние романсы и только что сочиненную басню «Слон и попугай», был поражен «странной мыслью и беспорядком в сочетании идей». «Ну, вот опять упреки в странности, — возразил Федотов, — я это слышу беспрестанно; да неужели, боже мой, я стал большим чудаком, чем прежде?..» В доме Половцева он, после затянувшихся отговорок, согласился, наконец, написать в альбом и написал: «Всё план за планом в голове, / Но жребий рушит эти планы… / О, не одна нам жизнь, а две / И суждены и даны», вместо имени своего поставив в конце «Кончено!». Хозяева пришли в недоумение — он объяснил: «Это, не знаю, почему-то мое убеждение, которое я никак не могу выкинуть из головы. Впрочем, поживем — увидим; может, предчувствие и обманывает меня!»
Предчувствие не обманывало: смерть стояла у порога, сначала духовная, потом, несколько месяцев спустя, физическая. Он никогда не решился бы со спокойной гордостью сказать: «Весь я не умру», но слабая надежда на то, что его существование продлится во второй, посмертной, жизни, все-таки теплилась в нем.
Уже приближалось лето. Друзья разъезжались по дачам. Дружинин звал его с собою в деревню, обещал устроить мастерскую в саду, среди «рощи из белых роз», прельщал живописными окрестностями. Федотов было заколебался, но все-таки устоял: «Я и так уже упустил один год, не напоминая о себе публике. Наша известность требует, чтобы о ней чаще толковали: знаете сравнение “слава — дым”. Надо чаще подпускать этого дыма; не то он разойдется по воздуху». Он поделился своими намерениями: летом взяться и постараться закончить «Возвращение институтки в родительский дом», осенью непременно участвовать в очередной трехгодичной выставке в Академии художеств (показать «Анкор, еще анкор!», «Игроков» и, может быть, «Институтку», если успеет), потом непременно поехать в Москву и отдохнуть, потому что не отдыхал давно.
Уже в конце мая и начале июня появились недвусмысленные симптомы страшной болезни. Недвусмысленные для нас, а тогда распознать их было некому, даже окажись рядом с Федотовым врач, потому что медицине о прогрессивном параличе, его причинах и течении еще ничего не было известно.
Всегдашняя замкнутость оставила его, он сделался говорлив до навязчивости. Маниакальная идея собственного величия и своей высокой миссии в мире то и дело прорывалась в его лихорадочных речах. Возвратившись как-то вечером домой чрезвычайно взволнованным, он сел за стол и с жаром написал нечто вроде «исповедания веры», где излагал свои взгляды на служение искусству, а записку послал Александру Бейдеману. Все написанное представлялось ему настолько значительным, что вскоре он отправил ему еще одну записку: «Сашенька, друг, присядь с карандашом к бумаге, не поленись прислать мне копию с того, что я писал к тебе. Эти святые минуты жизни должны быть сбережены на всю жизнь. Не поленись, дружок; этот ущерб художественности откроет новый ключ, разольется рекой, расширится озером, морем в груди твоей, морем огня, который пережжет в душе твоей все плотское, житейское, затеплится лишь сердце перед Богом во имя изящества, которого он центр и источник. Брат навсегда твой Павел». Такого за ним раньше не бывало.
В начале июня он пропал. Получив какую-то немалую сумму денег, не отослал ее тотчас в Москву, как водилось, а стал ими сорить, раздавая первым встречным, покупая всякий вздор и даже просто разбрасывая по улице. Побывал в нескольких знакомых домах, в каждом посватался, вызвав полное недоумение хозяев, и рассуждал о том, какие постройки возведет для своей будущей жизни, потом исчезал так же неожиданно, как появлялся. Рассказывали, что он заказал себе гроб, предварительно примерив его! Его видели на той стороне Невы, на Морской улице, потом, наняв ялик, он возвратился на Васильевский остров и снова исчез из виду.