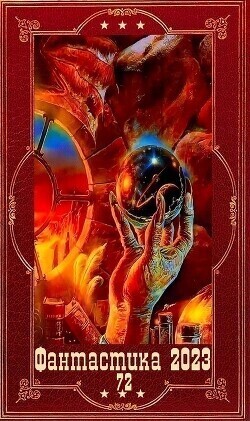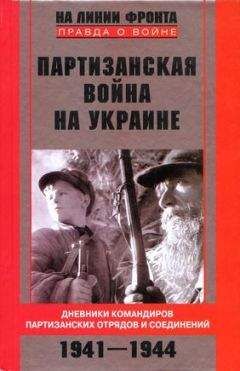то лазаю где-нибудь по наблюдательным пунктам переднего края.
1 июня. После обхода батарейных НП я должен ехать на доклад к майору Кузнецову в Парголово. На мне выходной костюм: шерстяная гимнастерка с золотыми погонами, фуражка и начищенные до блеска сапоги.
В последнем пункте, где я побывал, траншеи оказались на редкость сырыми и грязными. Мне не хотелось пачкаться, и я решил проскочить по верху. Выпрыгнув из траншеи, я намеревался броском пересечь небольшой участок открытого поля. Утро солнечное, ясное, на небе ни облачка. Синь над головой такая, что глаза ломит, – не характерная для Ленинграда синь. Не успел я сделать и двух шагов, как у виска взвизгнула пуля. Я упал. Но лишь только приподнял голову, как близ головы вновь ударила пуля. Бил, несомненно, снайпер, а финские снайпера бьют без промаха. Почему этот промазал? Может быть, он видит мои погоны и решил вначале поиздеваться над русским офицером? Положение мое становится затруднительным. Ощущение не из приятных. Нужно короткими перебежками пересечь это пространство. Время должно быть такое, чтобы финн не успел сообразить и нажать на спусковой крючок, – то есть секунды. Я лежу неподвижно. Собравшись с духом, делаю рывок и падаю. И вновь у виска свистит пуля. Я уже вижу спуск в траншею, но следует выждать. Именно в этот момент снайпер может меня прикончить. Я лежу, затаив дыхание, и выжидаю. Лежу долго и неподвижно. Лежу несколько минут почти у самого края траншеи. Теперь последний рывок.
И вот бросок с крутым поворотом, и я падаю в траншею. Выстрел, и пуля чиркнула по брустверу, обдав лицо колючими крошками земли. Чьи-то могутные руки подхватывают меня.
– Жив, что ли? – слышу я грубый, будто простуженный голос.
– Жив! – отвечаю.
– Это ты, брат, тово. Рискованно больно. Снайпера, они – головы не высовывай. А ты в ясный день да по чисту полю. Разе так-то можно? Ну да слава те Бог. Теперь не достанет.
Около меня собрались солдаты из уровских команд, пожилые русские мужики-работяги. Обмундирование на мне все мокрое и в глине. Куда же в таком виде ехать по начальству. Нужно сохнуть, чиститься или переодеваться. Я медленно шел по траншее к себе на НП, а мозг сверлила мысль: почему все-таки снайпер промазал?! А может быть, пощадил?! Почему все время бил мимо, в сантиметре от головы?! Не может быть такого, чтобы у финского снайпера подвел его «манлихер»?! Тогда что это?! Я все спрашивал и спрашивал себя и ответа не находил. Вернувшись домой, то есть – в бункер, я переоделся в сухое и решил немного отдохнуть. Но проспал до самого ужина.
Вечером, едва стемнело, на НП появился капитан Рудь. Сутулясь и оглядываясь, словно опасаясь, что его увидят и «засекут», Рудь стал шептать мне в ухо:
– Слушай-ка, лейтенант, ты ж начальник разведки полка. Да. Так, такое дело – ты того, Героя Союза получить хочешь?
– Что, капитан, разве дают где-нито?
– А ты не шуткуй, не шуткуй. Вон «Миллионер», понимаешь? Ночью составим штурмовую группу – твои ребята да мои ребята. Давай я тебя прикрою. Возьмем БОТ, и звезда Героя Союза – наша. А?
Я отлично представлял себе, что такое БОТ «Миллионер» – ширина по фронту 22 метра, в глубину – 11 метров. Напольная железобетонная стена толщиной в 2 метра и такой же силы перекрытие. Три этажа, уходящие под землю. Амбразуры пушечные и пулеметные с круговым сектором обстрела. Помимо всего, БОТ блокирован минными полями и кинжальным огнем соседних огневых точек. Шаблий говорил мне, что у Михалкина неоднократно подымался вопрос: как нейтрализовать «Миллионер», который может стать активной помехой при штурме переднего края. Несомненно, Рудь что-то пронюхал и решил обратиться ко мне с заманчивой идеей «проявить личную инициативу».
– За такое самочинство, капитан, – сказал я спокойно, но жестко, – нам с тобой не героя, а трибунал влепят.
Капитан Рудь ушел, обиженный и недовольный.
– Видал! Чего захотел, – усмехнулся комбат Федоров, слышавший наш разговор. Героя! Ха. Сунься, поди, под тот «Миллионер», что от тебя останется?! Кучи дерьма не соберешь. Сам-то он не пойдет. К тебе, вишь, пожаловал.
За полночь пришел Герасимов – он еле держался на ногах от усталости. Скинув сапоги, он завалился на нары и только лишь через некоторое время заговорил каким-то сдавленным, еле слышным голосом:
– Слыхал! Куриленко с Князевым собирают по батареям коммунистов и конфиденциально предлагают им изъявить «добровольное согласие» идти штурмовать в лоб «Миллионер».
– Ну и что же ответили члены партии?
– Не знаю. Я там не был. Говорят, вернулись они с того собеседования мрачными и грустными.
– И что же, сам Куриленко или сам Князев собираются возглавить штурмовую группу?!
– Зачем? Тебе предложат.
– Был тут уже с таким предложением один. Как видишь, не состоялось.
2 июня. Шаблий, Коваленко и я выехали на полковой старенькой эмке в Парголово, в штаб артиллерии армии на совещание.
Впервые в жизни присутствовал я на Военном совете такого высокого ранга. И меня уже заранее била нервная дрожь. Первый, кого я узнал, был генерал Михалкин – худощавый, большеротый, с небольшими седеющими усами и несколько усталым выражением на вдумчивом лице. Рядом с Михалкиным гладко бритый, моложавый, интеллигентной внешности и не лишенный надменности генерал Жданов. При виде этого аристократа от артиллерии я вовсе стушевался и как бы потерял вообще способность что-либо различать. Будто в старом, немом кинематографе мелькают передо мною фигуры: полковника Френкеля, черноволосого полковника Гуревича с усами бабочкой, начальника оперативного отдела подполковника Ковалева, полковника Березуцкого – пожилого, полного и бритоголового.
– Сегодня вас слушаем, – прошептал мне на ухо майор Кузнецов, приветливо пожимая руку.
Однако смысл его слов как-то не дошел до меня. В этой небольшой и невысокой комнатке одной из парголовских дач все генералы и высшие офицеры, сидящие за огромным длинным столом, спинами к окнам, видятся мною в контражурном свете, и в моем воображении сливаются как бы в одно огромное фантастическое существо, в едином охристо-зеленоватом кителе с множеством погон и голов.
Я ничего не понимал из того, о чем шла речь, хотя и напрягал свое внимание. Мое состояние, очевидно, было близким к обморочному и похожим на то, которое я испытал впервые в землянке командира батальона под Смердынью в первый день пребывания на передовой. До меня долетал какой-то общий гул голосов: кто-то бубнил басом, кто-то резко и неприятно смеялся, кто-то бросал остроумные реплики, но в чем было их остроумие, сообразить я не мог. В общей картине туманных впечатлений внимание фиксировало лишь какие-то отдельные моменты, совершенно не связанные