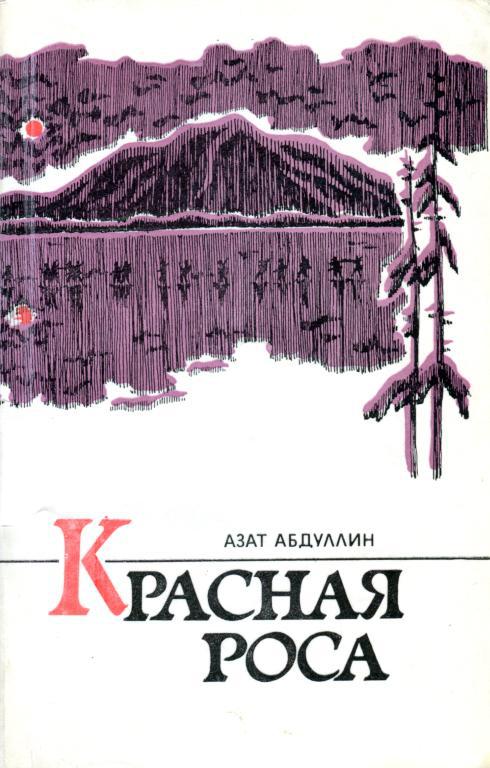после некоторого молчания снова Ягда:
— Но у меня есть три условия.
— Хоть сто.
— Первое: быть человеком.
— Пойдет.
— Второе: быть поэтом. Хорошие стихи писать.
— Не приходилось… Ладно, попробую.
— Третье: достроишь дом — сдашь под больницу.
— Ты что… спятила?
— Значит, быть человеком и поэтом легче, чем дом отдать? Пока.
Шаги замерли в стороне. Медленный топот лошади тоже затих вдали.
Когда Сергей вышел из хибары, Ягда сидела внизу у родника, опустив глаза. Он направился было к ней, но внезапно перед ним вырос Магсюм и сунул ему письмо:
— Получай. Из-за него скакал.
Сергей раскрыл конверт и застыл у порога.
Месяц тому назад он получил от Тони письмо. Оно было короткое, недосказанное. Но между строк он уловил, что живется ей нелегко. Она наверстывала упущенное, чтобы окончить курс вместе с группой. Сергей тогда, получив зарплату, половину отослал ей.
Это было второе письмо. Вскрыв конверт, он увидел фотографию.
«Зачем… почему она прислала ее?» — думал он вглядываясь в знакомое и родное лицо, в котором было что-то недоступное и обещающее в одно и то же время.
Из всего написанного ею он понял только одно: в конце июля она сдает последние экзамены и после этого могла бы приехать к нему, в совхоз.
Сергей стоял, чувствуя, как в нем все приходит в движение, в душе его будто поднимался ветер.
Он посмотрел на запад, туда, где, по его определению, должна была быть Москва.
На горизонте разрастались опаловые по краям, беломраморные тучи. Они шли в зенит, раскрывая глуби неба.
Сергей глядел на них, и ему казалось, что еще немного, еще неделя-две — и перевернется вся его жизнь.
Потом ему в голову стали приходить вопросы. В письме Тони трудно было увидеть что-либо определенное. Какие чувства стоят за ее письмом? Что в ней изменилось? Может, вправду она теперь больше нуждается в нем?..
Но спустя три недели, когда, получив телеграмму, он выехал на станцию встречать ее, им овладело одно-единственное чувство — возрастающее возбуждение от предстоящей встречи.
А сойдя перед вокзалом с двуколки, с букетом полевых цветов в руке, Сергей выбежал на перрон и вскоре увидел Тоню, выходящую из вагона, и он поразился — перед ним стояла совсем не та Тоня, которую он знал, а какая-то новая: каштановые волосы гладко причесаны и связаны в тугой узел на затылке; плавные и мягкие движения; на матово-белом лице одни глаза, большие и серые, — и вот они улыбнулись, точь-в-точь, как это ему грезилось. И светлели, будто дивясь чему-то и решаясь на что-то…
Второй день Тоня жила в совхозе. Они сидели вдвоем в комнате. Тоня вручную шила наволочку, а Сергей придерживал край ткани.
С голубого вечернего неба новый месяц глядел в окно комнаты, ставшей уютной, веселой, с желтыми занавесками на окнах, шумом примуса за дверью.
Сергей пытался осмыслить происшедшее: исполнилось то, о чем он даже перестал мечтать.
Для него Тоня была той единственной, с которой он никогда не будет тосковать по иной, как, слушая одну, проникновенную, единственную в своем роде музыку, не думаешь о другой, да и не можешь, потому что она охватывает тебя всего. Хмельной от счастья, Сергей ловил теперь каждый ее взгляд, ее смех, ее слова и ее молчание.
Тоня на миг подняла глаза, мягко улыбнулась и спросила, продолжая шить:
— О чем думаешь?
Он точно очнулся:
— Я?..
Не умеющий притворяться — а сейчас даже маленькое притворство показалось бы ему кощунством, — он сказал:
— Да не пойму: наяву это или во сне?
Она просветлела тихой нежностью и промолвила:
— Ты такой же, каким был. Господи, ты такой же… С тобой мне не страшно и ничто меня не тревожит. Просто это, наверно, потому, что ты не тщеславный.
— Я все думаю, как ты сможешь жить в этой деревне…
— А ты меня не разлюбишь?
От этих ее слов Сергея обдало острой радостью.
— Надеюсь… нет.
— Ты меня уже пугаешь… — сказала она.
Он откинул голову и тихо, словно самому себе, начал:
Тебя мне даже за плечи
не вытолкать из памяти,
Пусть ты совсем не прежняя,
пусть стала ты другой,
Но переливы глаз твоих
и губы цвета камеди
В сознанье озаряются,
как вольтовой дугой.
Я буду помнить корпус наш,
шаги твои по Лиственной,
Холодное молчание,
горячие слова.
Там пруд пылал как озеро
и бред казался истиной,
И от улыбки чуточной
кружилась голова.
Она, любовь, с тобой у нас
не распускалась розою,
Акацией не брызгала,
сиренью не цвела.
Она шла рядом с самою
обыкновенной прозою,
Она в курносом чайнике
гнездо себе свила.
Она была окутана
лиловым чадом примуса,
Насмешками приятелей
и сутолокой групп.
Но на душе тоска была,
и я в огонь бы ринулся
За искорку в глазах твоих,
за очертанье губ.
Теперь с тоскою кончено,
теперь твои артерии
С моими перепутаны
и переплетены.
И как рисунок бабочки
на шелковой материи,
Над нами тень раскинулась
ибряевской луны…
Она внимательно слушала. Потом задумчиво-грустно сказала:
— Хорошие стихи… В одной минуте — год жизни…
В радости и удивлении Сергей встал. «В одной минуте — год жизни…» Это и есть чудо поэзии. Как чудо снежного кома на ладони, что в мгновение воскрешает нам детство… Взволнованно, но очень сдержанно он сказал:
— Знаешь, я здесь… перестал было писать стихи.
— Почему?
— Здесь, только здесь, я понял, что художнику или тому, кто готовится им стать, необходимо — прежде всего — научить себя относиться и к людям, и к животным, и к деревьям с таким пониманием… вернее, чувствовать, что живешь с ними одной жизнью. Иначе ничего не увидишь, ничего не поймешь… Словом, сейчас главное — к старым, извечным явлениям выработать совершенно новое отношение.
— А к каким старым явлениям?
— Вот недавно… один гуртоправ хотел меня задушить… Что я почувствовал? Боль в груди, в висках… Я боролся и вдруг начал терять сознание. Наступило мгновение, когда решается: жизнь или смерть. Помедлишь — все. И в это мгновение, желая только одного — жить! — с ужасом, судорожно — не знаю, как только удалось мне — вытащил пистолет и из последних сил ударил. Как пришел в себя после этого, не помню. Но когда открыл глаза, хлынула радость… Зла к этому человеку не было… И пришли совсем иные слова — мы