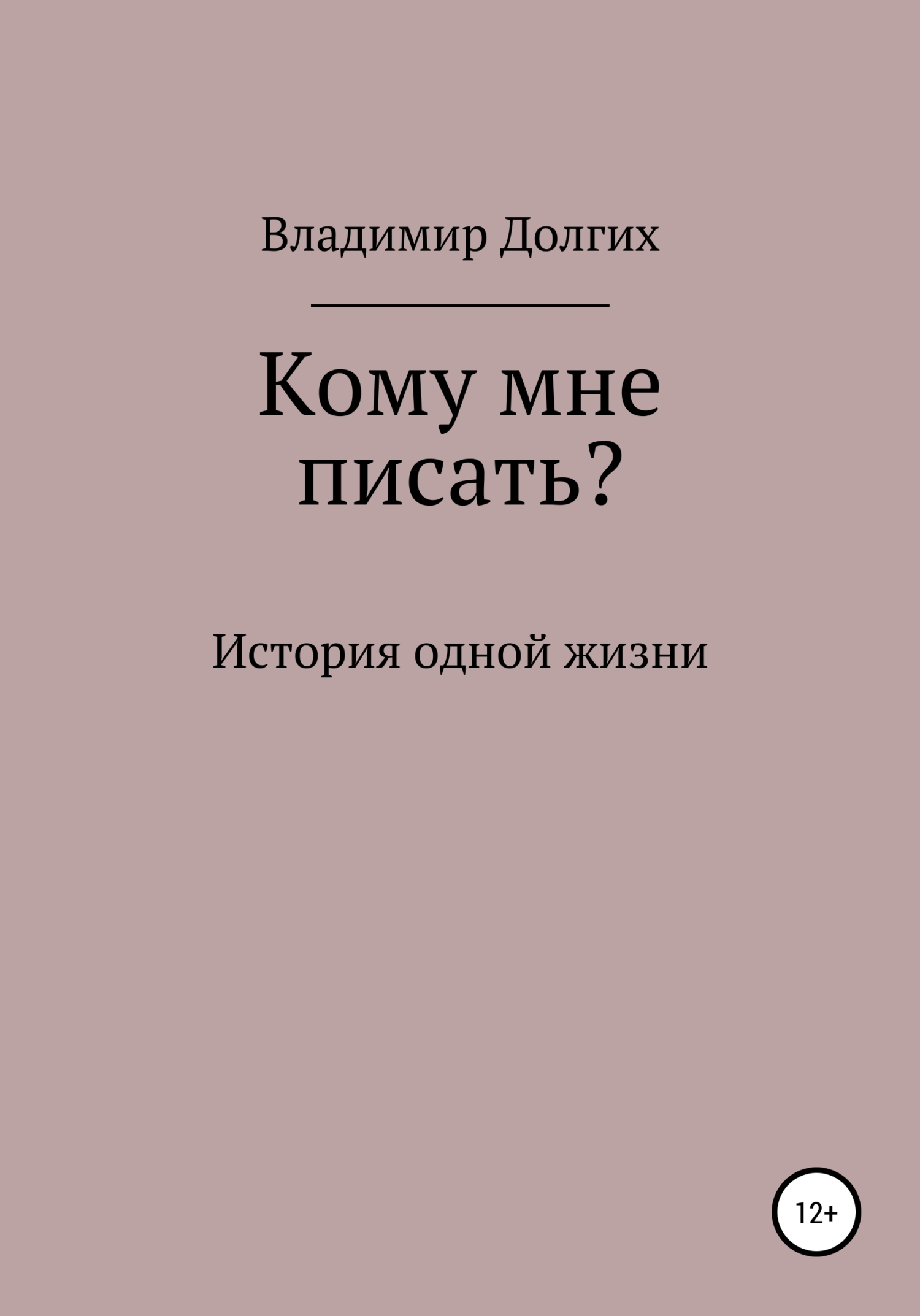мои сестры подражали родителям и делали вид, что ничего необычного или антиамериканского не случилось. Мне пришлось писать негодующее письмо президенту соединенных штатов в одиночестве, хотя отец пообещал, что я смогу его напечатать на печатной машинке у него в офисе, после того как покажу дневниковый рукописный вариант.
Официантка была белой, и прилавок был белым, и мороженое, которое я так и не съела в Вашингтоне в последнее лето детства, тоже было белым – и белый зной, белый тротуар и белые каменные памятники моего первого вашингтонского лета вызывали у меня тошноту всю оставшуюся поездку, и подарок на выпускной уже не казался подарком.
В доме матери одни специи полагалось натирать, а другие – толочь, и толочь приправы, чеснок и другие травы полагалось в ступке. У каждой приличной вест-индской женщины имелась собственная ступка. Если ступка терялась или давала трещину, конечно, можно было купить новую на рынке на Парк-авеню, под мостом, но там обычно торговали пуэрто-риканскими изделиями, которые, хотя были сделаны из дерева и в деле показывали себя точно так же, почему-то никогда не дотягивали качеством до вест-индских. Откуда брались правильные ступки, я так и не узнала, но понимала, что откуда-то ближе к аморфному и мистически-идеальному месту, именуемому «домом». Всё, что попадало к нам из «дома», обещало оказаться особенным.
Ступка моей матери была тщательно и искусно сработанной, в отличие от большинства других ее пожитков, – в полном согласии с тем, как она преподносила себя на публике. Крепкая и элегантная, ступка эта стояла на полке в кухонном буфете всю мою жизнь, и я страшно ее любила.
Ее вырезали из пахучего заморского дерева, слишком темного для вишни, слишком красного для клена. На мой детский взгляд, резьба на поверхности представлялась изысканной и невероятно манкой. Круглые сливы и овальные неопознанные фрукты: одни длинные и изогнутые, как бананы, другие округлые и набухшие на конце, как спелые авокадо. Между ними – кругляшки поменьше, вроде вишни, лежавшие кучками рядышком, одна к одной.
Мне нравилось ощупывать твердую округлость резных фруктов и всегда удивляло завершение форм в том месте на кромке, где резьба заканчивалась и ступка резко скашивалась вниз, мягко-овальная, но неожиданно практичная. Тяжелая прочность этой полезной деревянной вещи всегда дарила мне ощущение безопасности, полноты; будто бы наколдовывала изо всех разных вкусов, которые в ней толкли, видения вкуснейших пиров – тех, что уже напитали кого-то, и тех, что пока только предстояли.
Пестик был длинный, зауженный, из того же загадочного темно-розового дерева и в руку ложился запросто, почти фамильярно. Сама его форма напоминала мне о тыкве с кривой шеей, которую разогнули и слегка скрутили. Еще это могло быть авокадо с удлиненным носиком, которое приспособили для растирания, но при этом сохранили явную мягкую плотность и характер плода, на что намекала древесина. С той стороны, которой толкут, он был чуть больше, чем другие пестики, и расширенный, изогнутый кончик легко входил в чашу ступки. За долгие годы от ударов и трения об изношенное нутро чаши поверхность пестика размягчилась, и его закругленный край покрылся тонким слоем расщепленных волокон, словно бархатом. Такой же слой бархатистого толченого дерева выстилал покатое дно ступки.
Мать не слишком-то любила толочь специи, и изобилие готовых порошков считала поварским благом. Но для некоторых блюд обязательно требовалось особым образом смешать чеснок, репчатый лук и перец, и саус [6] был одним из них.
Мать готовила его из любых видов мяса. Можно было использовать сердца, обрезки говядины и даже куриные спинки или желудки, когда мы были очень бедными. Именно эта толченая смесь трав и специй, которой натирали мясо, прежде чем дать ему отстояться несколько часов, а потом приготовить, делала это блюдо таким особенным и незабываемым. Однако у матери были несокрушимые представления о том, что она больше всего любит стряпать и какие у нее любимые блюда, и саус не попадал ни в одну из этих категорий.
В те нечастые дни, когда мать разрешала одной из нас выбрать еду – обычно мы только помогали ее готовить, причем каждый день, – мои сестры предпочитали одно из запрещенных блюд, что были для нас желанны и знакомы по столам родственников: такая контрабанда редко водилась у нас дома. Например, иногда просили хотдоги, в кетчупе или с печеными по-бостонски бобами с корочкой, американскую курицу в панировке, зажаренную до хрустящей корочки, как это делали на юге, или какие-нибудь штуки со сливками, которые сестры пробовали в школе, и всякие там крокеты и даже фриттеры, а однажды поступил возмутительно смелый заказ на кусочки свежего арбуза – им торговали из ветхого деревянного вагончика, со стен которого еще не сошла пыль юга, и оттуда свешивался молодой костлявый Черный парень, полукрича-полувыпевая йодлем: «Аааоооооооорбууооооооооооз».
Я и сама жаждала разных американских блюд, но те один-два раза в год, когда мне доводилось выбирать еду, всегда просила саус. Это давало возможность воспользоваться материнской ступкой, что само по себе казалось более важным удовольствием, чем любая запретная еда. К тому же, если мне действительно сильно хотелось хотдогов или крокетов, я всегда могла вытянуть у папы из кармана немного денег и купить их в школьной столовой.
– Мамочка, давайте поедим сауса, – говорила я, не колеблясь. Предвкушение мягкого, пряного мяса в моем сознании было неотделимо от тактильного наслаждения материнской ступкой.
– Но отчего ты думаешь, что у кого-то есть время всё это толочь? – ястребино-серые глазами глаза матери сверкали из-под тяжелых черных бровей. – Вы, дети, и на минуточку ни о чём не задумаетесь, – и она возвращалась к предыдущему занятию. Если она только что вернулась из офиса вместе с отцом, она могла проверять чеки за день или перестирывать кучи грязного постельного белья, которое в меблированных комнатах не переводилось.
– Ох, я, я потолку чеснок, мамочка! – подавала я следующую реплику из сценария, написанного чьей-то таинственной древней рукой, и шла к буфету, чтобы достать тяжелые ступку и пестик.
Я вынимала головку чеснока из банки в холодильнике, отделяла от нее десять-двенадцать зубчиков, аккуратно освобождала от сиреневой папироснобумажной шелухи, а потом разрезала каждый зубчик пополам вдоль. Один за другим я кидала их во вместительную, ожидающую их чашу. Отрезав кусок от небольшой луковицы, откладывала остальное, чтобы потом добавить к мясу, резала кусок на четвертинки и тоже бросала в ступку. Дальше шел крупномолотый свежий черный перец, а за ним – щедрая присыпка из соли. Ну и наконец, если у нас был сельдерей, можно было отщипнуть с верхушки стебля несколько листиков. Иногда мать отправляла