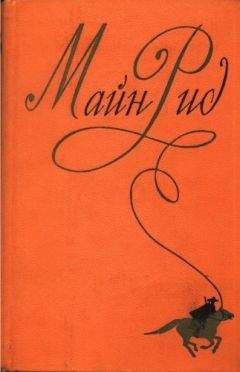Вульфович достал иэ кармана карты, края которых были сточены стеклом под разными углами таким образом, что он мог перемешивать их в любом желаемом порядке. Карты буквально порхали у него между ладонями.
— Карты в руках держать умею, — с гордостью сказал он. — Редко попадался мне кто-нибудь, чтобы я его не раздел.
Но тут раздалась команда идти на обед. Мы с Вульфовичем — в первой пятерке. От снега пахло весной.
— Кончается зима, кончается, — сказал Вульфович. — Впереди еще три зимы. Всю жизнь одно и то же. Видишь этого дежурного офицера? Я его знаю еще по Колыме. Он был тогда молодой. Кумом работал. Зверюгой был. А сейчас состарился, спился, все ему безразлично. Делает вид, что не узнает меня. Он все и всех знает.
Офицер медленно прохаживался, не отрывая взгляда от земли. Потом остановился в трех шагах от первой шеренги. Все также задумчиво глядя себе под ноги, он негромко, но внятно сказал:
— Что, Вульфович, сидишь?
— Сижу, — ответил Вульфович, пожимая плечами.
Офицер утвердительно кивнул головой и взмахом руки дал команду на съем.
* * *
Мимо барака, грузно наваливаясь на костыли и перебирая протезами, медленно передвигался лагерный писарь по кличке Канарис. Говорили, что он украл у государства несколько миллионов и, несмотря на изворотливость, получил смертный приговор, который был Верховным судом заменен на пятнадцать лет лишения свободы. Узнать же толком что-нибудь у самого Канариса было невозможно. Он и кличку свою получил потому, что знал все обо всех, о нем же никто не знал ничего. В заключении он находился около десяти лет. Начальство его не любило, но побаивалось связываться. Знал он непомерно много и со своими связями на свободе мог использовать это самым неприятным образом. Поравнявшись со мной, он остановился, внимательно и остро прощупывая своими злыми и смеющимися глазами.
— Свободы дожидаетесь? — спросил он.
— Еще не скоро, — ответил я.
Канарис иронически улыбнулся.
— Вам несколько месяцев осталось. Так ведь? Ну, об этом смешно и говорить.
Канарис двинулся дальше. Я поплелся рядом с ним.
— Скоро, скоро ваш день придет, — бормотал Канарис. — Выйдете из этой помойки и забудете зверье, которое здесь обитает. У меня, кстати, тоже появилась надежда. Недавно узнал, что мне сняли еще три года. Через два года, следовательно, и я ухожу.
— Многовато пробыли в такой обстановочке.
— А куда денешься? Привыкаешь. Кстати, обстановка меняется, хоть и медленно очень, подчас незаметно для взгляда. Я, знаете ли, вел статистику, пока меня начальник лагеря не попросил уничтожить тетрадку. Кое-что было интересно. Например, девять лет назад, когда меня сюда привезли, находилось в лагере пятьсот человек. В соответствии с установленными нормами. Сейчас на тех же площадях тысяча человек. О нормах уже никто не говорит. Состав тоже меняется. Еще лет пять назад больше всего было хулиганов, а остальные — грабители, воры, насильники. Да и образование у них было крайне низкое, если вообще можно говорить об их образовании. А сейчас все больше пригоняют лиц со средним и даже высшим образованием. И преступления не те. Шире по размаху, подготовке, жестокости. А есть и совсем интеллигенты, и промысел-то у них интеллигентный. Да, вы не знакомы ли с новеньким, с этапа? Давид его зовут. Он, кстати, еврей, вам интересно будет с ним познакомиться. Только не распространяйтесь, что это я вам сказал.
Канарис заковылял дальше, а я пошел разыскивать новичка. Зайдя в барак, я сразу же его увидел: интеллигентное лицо, растерянный взгляд, богемные манеры… Я представился. Давид весь засветился радостью. Его оглушил самый вид лагеря, а уж обитатели внушали мистический ужас и отвращение. Он никак не мог понять, почему и из-за чего они дерутся, к чему такая жестокость и не лучше ли в тяжелых условиях помогать друг другу, вместо того чтобы делать существование совсем невыносимым.
— Может, тебе что-нибудь надо, — суетился он, — я с этапа привез кое-что. Ой, куда же я задевал меховые варежки? Поищи, пожалуйста, в мешке, где-то тут. А у меня сигареты есть. Я их, кажется, в тумбочку положил. Ах, нет, их здесь нет. О! Вот они, под подушкой. Быть может, ты хочешь…
Я остановил его.
— О, тебе кажется, что я непоследовательный. Это у меня в крови. К тому же я до сих пор не могу поверить, что мне сидеть девять лет. Девять лет после такой жизни, которую я вел! Москва, богема, лучшие курорты, непрерывное колесо веселья и риска, и мысль, что могу все это делать безнаказанно. И так все бы и продолжалось, если бы я не подал заявление на выезд в Израиль. В сущности, я в Израиль ехать и не собирался, была у меня невеста в одном из посольств, и я хотел уехать из России, чтобы на ней жениться. Но подал документы — и меня арестовали. Материалов у них оказалось достаточно. Если любопытно — прочти приговор.
Он протянул мне свернутые в трубку листы. Читать их помимо всего прочего было просто забавно; тут и антиквариат, и редкие иконы, и старинное золото и серебро, и встречи с бизнесменами из-за границы — словом, целый приключенческий роман. И даже наряду с редкими серебряными столовыми сервизами или дорогими картинами — двести пар каких-то тапочек.
— Уж я умолял следователя, — сказал он, — не писать это в обвинительном заключении. А вместо этих тапочек я был согласен на любое увеличение суммы иска. Но нет, он не согласился. Ах, какой позор, антиквариат — и тапочки! Но девять лет — подумать только! А следователь мне сказал:
«Конечно, вы жили хорошо. Но за хорошую жизнь девять лет… это слишком много». Он прав, но что же делать? Даже если вернуть все обратно, разве я не стал бы делать то же самое?
— Все можно понять, — ответил я, — но почему тебя так поражает лагерь? Ведь ты, должно быть, не первый раз сидишь.
— Конечно, нет. Второй. Первый раз я сел более десяти лет назад. Да и что это был за лагерь! Во-первых, под Москвой. Во-вторых, все люди с первой судимостью. А в-третьих, это было больше похоже на детский сад.
Работа нетяжелая, народ приятный, не было такой темной уголовщины. Отец часто приезжал. Словом, полтора года прошли незаметно. Никогда не думал, что может быть такое. А когда меня из Лефортовской тюрьмы повезли на этап — тут-то я увидел…
Я, как мог, пытался скрасить ему существование, а он подолгу рассказывал мне про жизнь московской богемы. Был он хорошим рассказчиком и веселым парнем, а это немаловажно в тюремных условиях. В рабочей зоне, когда не подвозили лес, мы коротали время в крошечной мастерской у Станислава — зэка, сидевшего по статье 190 и потому предоставлявшего мне приют, как коллеге. Статью свою Станислав получил за то, что разбросал в лагере антикоммунистические листовки да водрузил ночью на бараке белый флаг с надписью: «Смерть коммунистам». Его увезли в томскую больничку, в психушку, где вводили «растормозку» — препарат, после которого легко можно заставить человека отвечать на вопросы. Но Станислав знал, что, если он выдаст участников, будет «групповая», а за это сроки огромные. Если же не выдаст — пойдет как одиночка, за что дадут срок значительно меньший.