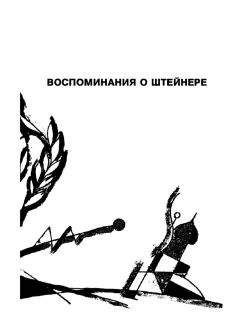Наступило Рождество — с рождественским деревом, но без свечей. Рождественские спектакли — но без лекций Рудольфа Штейнера. Между двенадцатью и часом было время, когда госпожа Штейнер навещала его. Она всегда шла в одиночестве, и это было нелегко при ее больных ногах. Однажды я встретилась с ней, ее лицо было залито слезами. Я попыталась улизнуть в сторону, но она заметила меня. "Слишком любопытная", — улыбнулась она сквозь слезы и дала мне легкий щелчок своим тонким пальцем. — Мы слышали, что госпожа Штейнер в последнее время намеревалась забрать господина доктора назад в Дом Ханси. Но несмотря на свои страдания, он хотел до конца оставаться в столярной… Было ощущение великого трагизма, втайне разыгрывающегося здесь, — и не только из-за его болезни. — Примерно в конце февраля госпожа Штейнер снова уехала в Германию с эвритмической группой. Мне было жутко из-за этого отъезда. Эвритмистки вернулись обратно. Но ее в Штутгарте задержали обстоятельства, связанные с Обществом. Обладая железной волей и величайшим самоотречением, она стремилась довести до конца дело, порученное ей доктором Штейнером.
29 марта 1925 года, воскресенье. Попросили не аплодировать во время эвритмического представления, доктору Штейнеру нужен покой. — Но ведь было сказано, что ему лучше? Что он вскоре снова начнет работать на моделью Здания?
На сцене шла постановка космических хоров Ферхера фон Штейнванда. Я забилась на кушетку в "Золотом человеке", плакала и не могла остановиться. Макс Шурман, проходя мимо, спросил, почему я плачу. Я не знала почему…
В столярной стояло маленькая заготовка из дерева в форме нового здания, предназначенная для разработок доктора Штейнера[15]. Урна для праха Рудольфа Штейнера! Как я могла прийти к этой чудовищной мысли? — Лишь позднее я узнала, что Альберту Штеффену при виде этой модели пришло в голову то же самое.
Гнетущей, тяжелой была последняя ночь. Долго передо мной стоял черный крест. Примерно в половине первого я услышала шорох за дверью. Открыв ее, я увидела, что там стоят и смотрят на меня госпожа Ильина и ее сестра. "Доктор?" — спросила я и снова закрыла дверь.
В столярной все оставалось по-старому, но не было ни души. Через некоторое время я встретила сестру, и мы отважились войти в мастерскую. Там тоже никого не было, кроме доктора Штейнера: на постели возле статуи Христа, — лик в профиль. Резкий дневной свет, заострившиеся черты лица, сложенные руки. Таким он мог быть и во сне. — Постичь тот факт, что его уже больше не будет с нами, сознанием было невозможно, — понималось это только чувством. — Мы долго оставались одни; затем к нам присоединился еще кое-кто из друзей.
Около двенадцати часов автомобиль с госпожой Штейнер въехал на гору и остановился у столярной. Доктор Нолль вышел навстречу и открыл дверь автомобиля. "Почему Вы мне не сообщили? Я была уверена, что Вы сделаете это…": такими были первые, полные боли слова, которые произнесла, выходя, госпожа Штейнер. В душе она знала, что произошло; она почувствовала это в пути, а по прибытии узнала обо всем в Доме Ханси.
Через несколько часов я снова пришла в мастерскую. Теперь все было иным. Рудольф Штейнер, озаренный мягким светом свечей, покоился в затемненном помещении на катафалке перед статуей Христа, и его лик был обращен к входящим. Справа в полутьме можно было рассмотреть Альберта Штеффена, доктора Ваксмута и доктора Вреде. Возле них в тени — госпожа Штейнер. На небольшой кушетке у входа — госпожа доктор Вегман.
Теперь мы оказались перед фактом: Рудольф Штейнер умер. Но это слово не годилось для него. Теплая жизнь овевала эти помолодевшие черты, нежно освещенные мягким свечным сиянием. Его окутывало белое одеяние, выделялись лишь темные волосы. Покой, исходящий от него, не был смертным покоем, — это не было и сном. Он внимал… и задавал вопросы. — При жизни его часто воспринимали как совесть, и совесть пытались иногда отклонить неуместным в его присутствии поведением. Происходила как бы беседа с глазу на глаз, которая обрывалась и вновь возобновлялась. Но последнее слово всегда оставалось за ним. Теперь каждый стоял перед ним со своей совестью, и он с бесконечной кротостью предоставлял всем свободу действий. — Когда я повернулась к выходу, то увидела просветленный, прекрасный лик госпожи Штейнер, взирающий на нас из темноты. Было такое впечатление, что она вобрала в себя все, что было пережито другими. Только она встала над смертью.
Несмотря на увеличивающийся поток посетителей, я еще не раз заходила в мастерскую. Можно ли было расстаться с ним? Всякий раз он менялся. На третий день он был надмирно прекрасным. Одна любовь выражалась в его чертах. Если припомнить игру солнечных лучей в цветных стеклах окон Шартрского собора, то возникающее при этом настроение отчасти сходно с тем, которое было у нас в этот третий день. На четвертый день к его выражению лица добавилось нечто энергичное, почти строгое и одновременно отстраненное. Друзья сняли с него посмертную маску.
Между тем мастерская была переполнена людьми, которые желали проститься с ним. Священник Риттельмайер должен был отслужить панихиду. За сценой эвритмистки сшивали черные платки для похоронной церемонии. Они любезно уступили мне место, чтобы я тоже могла потрудиться для господина доктора. Но моя манера шитья им не понравилась, и после извинений меня отстранили. Я заглянула в зал. На сцене фрейлейн Гек в отчаянии пыталась привести в порядок множество принесенных цветов. Она с облегчением уступила мне свое дело; размещать на сцене цветы в соответствии с их окраской и величиной было приятной работой. Через некоторое время взглянуть на это пришла госпожа Штейнер. Ее истощенные силы явно освежились при виде такого цветочного моря: в этом зрелище было нечто животворное. Она долго сидела там в молчании. Затем вмешалось ее чувство прекрасного. Она потребовала от меня убрать из цветов все свернутые ленты с надписями. После этого я должна была прикрыть черным шелком белую раму, в которой находился образ Христа из Бреры в Милане: его распорядилась вывесить Христианская община. Теперь госпоже Штейнер мешали красивые серебряные подсвечники: должны оставаться одни цветы. Я побежала в мастерскую и нашла там два сосуда с красными розами. Подсвечники обвили ими, и это успокоило госпожу Штейнер.
Вечером состоялась похоронная церемония. Альберт Штеффен в своей речи упомянул о том, что на похоронах Фомы Аквинского вместо надгробных песнопений церковный хор запел "Осанну"; сколько света это замечание внесло в обряд!