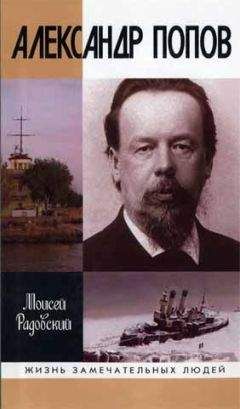Во время этих нескольких недель питание, хотя и недостаточное, чтобы поддержать нас, чтобы добрать потерянные килограммы, в целом было нормальным и позволило нам, в общем, сохранить вес. Хлеб, очень сырой, тяжёлый и плохо перевариваемый, наверняка состоящий из смеси зёрен неясного происхождения, картошки и большого количества воды, был достаточно вкусным (по крайней мере, для очень голодных). Вы, конечно, думаете: семьсот граммов хлеба в день, это же прекрасно! Но вы не знаете, что этот кусок, который легко можно было уместить между двух ладоней, размером не больше мужского кулака, соответствовал ста пятидесяти граммам того хлеба, который мы едим сейчас, но худшего по качеству (мнение бывшего врача тамбовского лагеря). Днём нам давали суп из муки, жидкий, но наваристый и вполне вкусный, и к нему — пару ложек kacha: нечто вроде овсяной каши, пюре из проса (это было лучше всего!), гороха или других овощей. Вечером опять давали суп, такой же как в день нашего приезда.
В бане.
Рис. А. Тиама
Дни проходят в настоящем счастье и веселье. Это были единственные недели, которые вызывают у меня хорошие воспоминания, тем более что я больше не был старшим по бараку и больше не нёс эту обязанность, которая совсем не всегда была приятной. Но новостей о приезде этой знаменитой комиссии всё так и нет, хотя было объявлено, что она обязательно приедет. Нарастает раздражение, появляются признаки нетерпения, в наших душах опять поселяется сомнение. А если вся эта суматоха была просто злой шуткой? Неприятное событие усилило наш нарождающийся пессимизм и опустило наш моральный барометр до нуля: в середине июня русское начальство вдруг стало организовывать французские бригады, которые отправляли на работы в лес, колхоз, на торфоразработки, строительство шлюза и т. д. Мы решили, что перед нами просто разыгрывали комедию и мы никогда не уедем в Алжир.
И вдруг ситуация меняется! В один из последних дней июня все французские бригады срочно возвращают в лагерь. Все уверяют нас, что в этот раз всё серьёзно, что мы скоро уедем. Одни настаивают на том, что видели на русских армейских складах, расположенных неподалёку от лагеря, великолепную новую униформу, предназначенную для нас. Другие видели на станции Рада поезд, который должен нас увезти, один из них даже пересчитал вагоны. В лагере то и дело объявляют тревогу, офицеры без конца нас пересчитывают и проверяют. Баня работает на полную мощность. Пленные беспрестанно обеспечивают её водой, и у парикмахеров голова идёт кругом: все отъезжающие должны обязательно пройти баню, бритье и стрижку.
На следующий день мы должны пройти медицинский осмотр перед комиссией из врачей лагеря и полудюжиной срочно прибывших из Москвы. Нам сказали, что те, чьё состояние здоровья не будет удовлетворительным, никуда не поедут! Но видя, с какой скоростью происходит этот осмотр, мы уверились, что это просто формальность! Как только первые вошли в медпункт, как уже торопят следующих: «Davaï, davaï, bistré!»
Подходит моя очередь. Я прохожу перед женщиной-врачом, начальником медицинской службы лагеря, которую наши окрестили матерью французов. Одной рукой она прощупывает у меня бицепс на левой руке и, не почувствовав ничего, кроме кожи и костей, даёт отрицательный знак секретарю, который… вычёркивает моё имя из списка отъезжающих! Я слишком слаб, я не перенесу тяжёлого путешествия из Тамбова в Алжир! Это был удар под дых. Меня выбросили! Я не уеду вместе с товарищами! Конец прекрасным мечтам!
Это был единственный раз за всё время моего заключения, когда у меня на глаза навернулись слёзы, когда я почти пал духом. Совершенно необходимо овладеть собой, не опускать руки и надеяться на лучшее вместе с моими товарищами, тоже не включёнными в список отъезжающих. Сейчас, когда операция по возвращению французов на родину уже началась, нет никаких причин, чтобы её остановить, говорил я себе. Как только нас станет достаточно много, настанет и наша очередь уехать, самое позднее — через четыре-пять недель, уверял нас политрук Олари. Теперь нашим девизом будет «не падать духом и надеяться на лучшее». Впоследствии меня вместе с моими товарищами по несчастью присоединят к другому бараку, опять в карантине.
Через пару дней к нам пришёл Пьер Эглер, до сих пор бывший шефом французов, что означало, что он был ответственным за французский сектор под командованием русских (фактически НКВД) и румынского военнопленного Антонова, военного и административного начальника всего лагеря, о чём я уже писал. Он вызвал меня и моего приятеля Й. Ф. к себе в «хату», в свой «кабинет» в глубине барака № 65, чтобы решить, кто станет следующим главой французского сектора. Мы были единственными аспирантами резерва французской армии, наш чин был посередине между унтер-офицером и младшим лейтенантом, и среди принудительно призванных это был самый высокий возможный чин, поскольку офицеров немцы не призывали. Таким образом, именно на нашу долю выпала «честь» быть его преемниками. Я немедленно отказался, приведя две причины. Первая, менее важная, состояла в том, что моё недостаточно хорошее физическое состояние не позволило бы мне эффективно и правильно выполнять эти обязанности. Вторая была гораздо глубже. В нынешнем состоянии дел русские рассматривают нас как врагов, так же как немцев и их союзников румын. Они бросают наших товарищей в трудовые бригады, где им поручают самые неприятные, опасные, изматывающие работы, нередко приводящие к смерти от истощения, как это было на торфоразработках или на строительстве плотины Цнинстроя[53]. Шеф французов не имеет никаких возможностей, никакой власти, чтобы улучшить судьбу своих соотечественников. Находясь между молотом и наковальней, между русским начальством (НКВД) и французскими пленными, он играет роль промежуточной инстанции, чтобы выполнять приказы, полученные сверху. В то же время он принимает на себя обязанности, которые русские с удовольствием с себя сняли. В глазах наших товарищей шеф французов — причина всех их несчастий, и они упрекают его в том, что он ничего не сделал, чтобы улучшить их положение. Эти аргументы совсем не порадовали Эглера. Напротив, Й. Ф. немедленно согласился взять на себя эту важную и трудную обязанность. Итак, он будет шефом французов. Справится ли он? Он, который десять лет назад был тихим, забитым мальчиком, выйдет ли из него начальник? Я не могу удержаться от того, чтобы привести тут некоторые мнения из воспоминаний о Тамбове:
«Й. Ф. был высокий весельчак, которого худоба делала ещё выше. Пост, который он занимал в лагере, он получил только благодаря чину аспиранта французской армии. Это был мечтатель, не обладающий никакой энергией, и казалось, что он парит над грустной действительностью… У него абсолютно не было никакого начальственного характера».