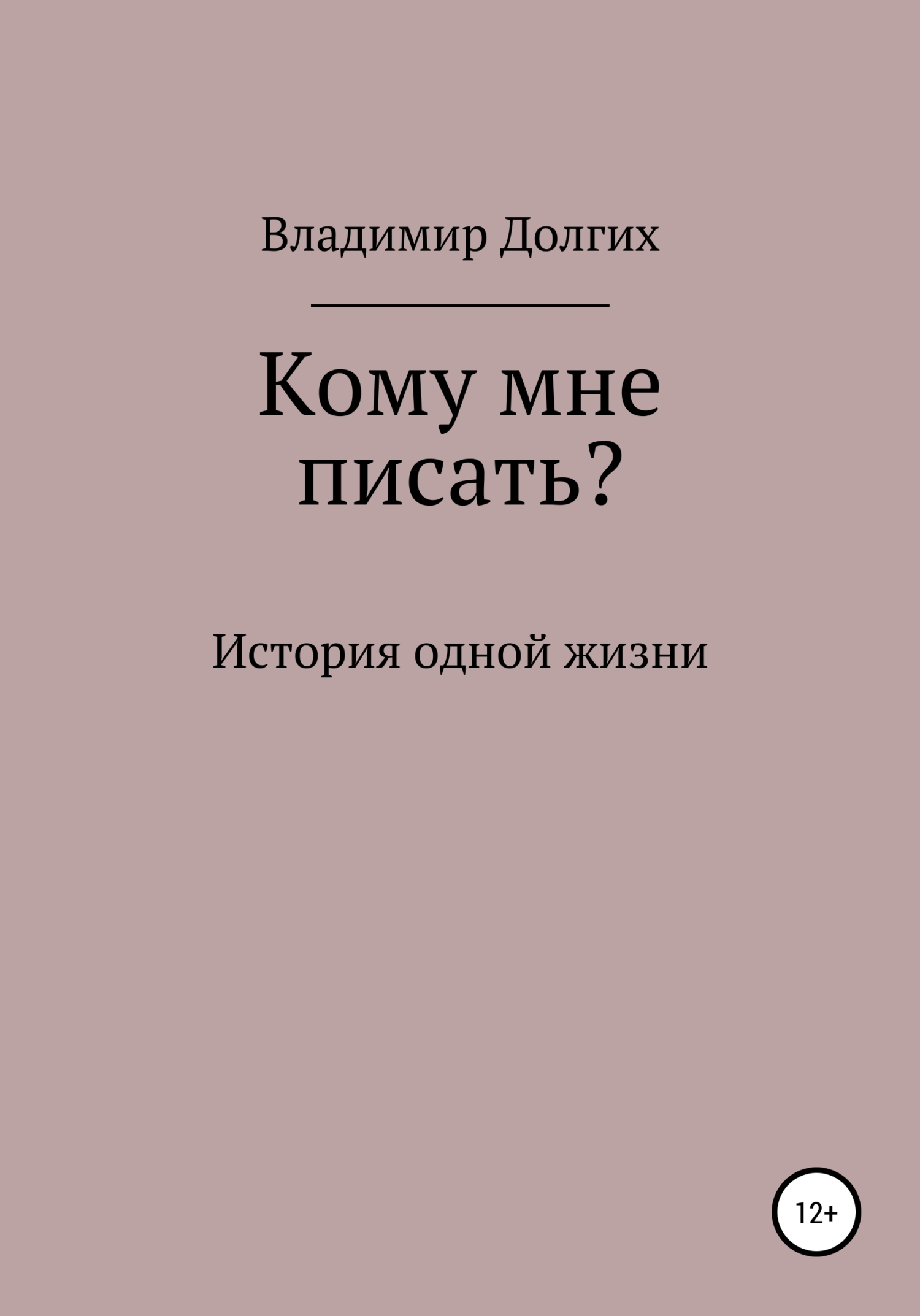куриных ног для Джин и Альфа. По своим стандартам я стала очень худой.
Когда наступило лето, Меченые заявились на Спринг-стрит все вместе, скребли и мыли всё подряд. С тех пор я стала готовить чаще.
Я отодрала штукатурку по всему периметру стены и над камином и ошкурила старый кирпич, пока он не стал ярким, гладким и ровным. Гитару Дженни повесила над камином, немного по диагонали.
Лето накинулось на наш крошечный дом с остервенением, и два окна в квартире не особо помогали. Я приучала себя расслабляться и наслаждаться жарой вместо того, чтобы с ней бороться, раскрывать свои поры, впускать жар внутрь, а потом источать его наружу.
Обычно в три ночи я сидела в трусах и майке на карточном столике в гостиной и печатала, а пот стекал по грудной клетке и между грудями. Птички умерли. Убивший их кот сбежал. Но я, когда писала, чувствовала, что действительно живу.
Я никогда не перечитывала свои тексты. Странные стихи о смерти, разрушении и глубоком отчаянии. На встречах журнала «Гарлемский писательский ежеквартальник» я читала лишь старые стихи школьных дней, написанные за год до того.
Я пришла из долины
Смеясь во всю черноту
Вверх меж гор поднялась я
Рыдая, холодной
Стесненной липкими душами мертвых людей
Потрясенная
Гулом потраченных впустую минут
Нерожденных лет…………..
……………………….
Я была историей людей-фантомов
Я была надеждой непрожитых жизней
Я была побочной мыслью пустоты космоса
И пространства в пустых хлебных корзинах
Я была рукой, протянутой к солнцу
Сгоревшая дотла в поисках облегчения….
………………………
И на дереве скорби повесили меня
Потерянные чувства злых людей
Повесили меня, забыв как долго
Я умирала
Как бессмертно стояла
Забывая как легко
Я смогу снова
Восстать
20 апреля 1952 года
В том году, когда я узнала, что завалила на летней школе немецкий и тригонометрию, мне и в голову не пришло: причина в том, что я все лето пронянчилась с девочками из Меченых в своей крошечной квартирке.
Мне и в голову не пришло: причина в том, что каждый вечер, приходя домой с работы, вместо того, чтобы сделать домашнее задание на следующий день, я угощала всех кофе, приправленным коричными кубиками льда с сухим молоком и таблетками декседрина. Все мы были бедными и голодными. Сидели на полу в маленькой гостиной с неразожженным камином и открытыми настежь окнами, пытались перехватить свежего воздуха, растянувшись на матрасах, раскиданных по спальне. Наши тела прикрывали только нейлоновые нижние юбки, натянутые на грудь, иногда перевязанные лентой вокруг талии.
Себе я объяснила, что завалила летнюю школу, что просто не могла выучить немецкий. Некоторые могут, решила я, некоторые – нет; вот и я не могу.
Кроме того, в Хантер-колледже я ужасно тосковала, мне вообще там не нравилось. Он больше походил на католическую школу для девочек, а не на старшую школу Хантер, где жизнь была такой интересной и эмоционально сложной. Для большинства девушек с первого курса колледжа эмоциональная сложность заключалась в том, чтобы прогулять занятия, играя в бридж в столовке.
К тому же меня выводила из себя сексуальная фрустрация, вызванная присутствием всех этих красивых молодых женщин, которых я пригрела на груди, точно израненная банши. Аборт добавлял грусти, говорить о которой я не могла, – уж никак не с этими девочками, что почитали мой дом и мою независимость за убежище и верили, что я степенная, сильная, на меня можно положиться, – конечно, я хотела, чтобы именно так они обо мне и думали.
Спали ли они друг с другом на моем пружинном двуспальном матрасе «Блум и Круп», пока я была на учебе или на работе, – не знаю. Мы частенько об этом шутили. Но даже если спали, то мне об этом не рассказывали, и я бы никогда не призналась, сколь соблазнительными и пугающими находила эти их светлые, рыжие и шатенистые секретности, что выглядывали из-под натянутых нижних юбок в сорокоградусной жаре небольшой квартирки, выходившей на задний двор.
В то лето я решила, что обязательно заведу роман с женщиной – прямо вот этими словами и дала себе обещание. Но как воплотить его в жизнь, не знала, и толком не понимала, что подразумеваю под словом «роман». Но мне было ясно, что я хочу чего-то большего, чем просто обниматься под одеялом и целоваться в кровати Мари.
Мари, как и я, в старшей школе была на периферии компании Меченых. Низенькая и кругленькая, лицо сердечком, а на нем – огромные сияющие средиземноморские глаза. Нас связывала страсть к выучиванию романтических баллад и чтению стихов Миллей. Мари не хотела поступать в колледж и сразу после школы пошла работать – это дало ей номинальную независимость, хотя она до сих пор жила со своей итальянской семьей, очень строгой.
Осенью, после моего ухода из дома, я пару раз у них ужинала. Еду, обильную и сытную, подавала молчаливо-щедрая мать Мари, которая совсем меня не одобряла – в основном потому что я была Черной, но также потому, что я стала жить одна. Хорошая девушка до замужества из материнского дома не уйдет. А раз ушла – значит, шлюха, что в глазах миссис Мадроны в любом случае равнялось тому, чтобы быть Черной.
Иногда я оставалась на ночь, деля с Мари раскладной диван «Кастро Конвертибл» в гостиной, потому что вторую спальню отдали ее брату. Мы допоздна не спали, нежились под одеялом при свете молельной свечки на алтаре Деве Марии в углу, целовались, обнимались и тихонько хохотали, чтобы ее мать нас не услышала.
В конце весны остальные Меченые вернулись из своих колледжей Лиги плюща, и все мы собрались в моей квартире на грандиозную вечеринку/уборку.
Все, кроме Мари. Она сбежала из дома и нашла приют в Ассоциации молодых христианок, а потом вышла замуж за парня, который как-то присел за ее столик в кафетерии «Уолдорф». В ту же самую ночь. Они уехали в Мэриленд и стали себе жить-поживать.
Я распахивала двери своей квартиры перед Мечеными, что уже считали ее своим вторым домом. Наступало лето, и отсутствие отопления и горячей воды не было такой уж сильной проблемой, хотя невозможность принять душ удручала.
Иногда мы с соседом отправлялись за угол к его другу и мылись там.
У меня же не иссякал поток молодых женщин – и большинство из них так или иначе