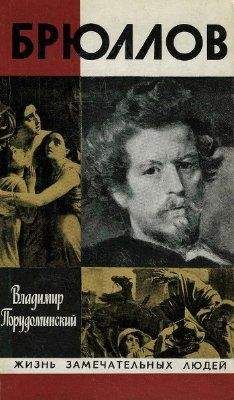У своего приятеля, академического пенсионера Федора Бруни, художника уже известного, Карл увидел красавицу баронессу Меллер-Закомельскуго: Бруни исполнял ее портрет.
— Так как вы сидите на натуре, позвольте и мне порисовать с вас; я вам мешать не буду.
Брюллов приткнулся в сторонке и сделал портрет баронессы акварелью, да такой, что Бруни, взглянув на портрет, заплакал. Но вдохновение Карла не исчерпалось, не ушло, подкрепилось, быть может, сердечным чувством. Он, не откладывая, начал и быстро продвинул новый портрет баронессы — большой портрет маслом, необыкновенно интересный по замыслу. Баронесса, обернувшись к зрителям, устроилась на корме уплывающей вдаль лодки; рядом с ней — ребенок, девочка; а на веслах, управляя лодкой, сидит сам Брюллов. Этот смело и красиво задуманный портрет с автопортретом остался неоконченным: наверно, ушла сердечность, а с нею и вдохновение. (Спустя годы Меллер-Закомельская просила Брюллова окончить портрет и тем много ее утешить. Она писала, что, понимая невозможность соблазнить его деньгами, все же распорядилась, чтобы ее банкир немедленно выплатил ему четыре тысячи, а после окончания портрета еще четыре! Она просила Карла «вспомнить, что когда-то вы сию картину любили и работали con amore». Но Брюллов уже не в силах работать con amore — с любовью — нет «amore»: неоконченный холст так и остался в мастерской художника до самой его смерти. Уговаривая Брюллова, баронесса писала: «И себя самого поместите, как и прежде, мне весьма лестно будет иметь ваше изображение, а потомству очень интересно». Но когда флорентийская Академия художеств просила Брюллова, уже прославленного, исполнить автопортрет для помещения в галерею Уффици рядом с изображениями величайших живописцев, он было горячо принялся за дело, но почему-то потерял интерес к работе и забросил ее. В галерею Уффици незавершенный автопортрет не попал: Брюллов подарил его семейству Карло Кадео, своего приятеля, у которого в то время жил на квартире.)
Деньги от Общества поощрения доставляются все реже, да и письменные наставления теперь нечасты. Поощрители понимают независимость Карла, да он и не желает независимость свою скрывать — разнежился под ее приносящими уверенность лучами и как бы объявляет: баста, никому не должен, никому не обязан. Для поощрителей дерзкая поза его обидна. Были, конечно, шумно прославленные «Утро» и «Полдень», была удостоенная высочайших милостей копия «Афинской школы», едва не каждый едущий в Рим норовит привезти оттуда портрет брюлловской работы, его же сценку, исполненную маслом или акварелью, — все так, но общество, терпеливо поощряя «игрушки», ждет от него в ответ настоящей картины и полагает себя вправе ждать. Только «настоящая картина» оправдывает перед всеми терпение общества, смысл и назначение его. Добрый Гальберг богом молит из Питера — пиши обществу почаще, да угождай, благодетели ропщут, а без них не проживешь! Сидит Самойлушка в Петербурге — работу сыскать трудно. Молодой Демидов тоже гневается — отчего контракт нарушен, отчего не готова к сроку картина про Помпею? Великая княгиня Елена Павловна, путешествующая по Италии, готова всякий день заказывать новый портрет. Брат Александр шлет нравоучения — укоряет в лености, попрекает тем, что большая часть денег, полученных от общества, досталась Карлу…
В Париже Александр Брюллов, на несколько минут оторвавшись от камней и досок, на которые без устали наносит тщательнейше выполненные рисунки помпейских бань, вытирает руки тряпицей и читает донесение верного человека: «…Твой брат Карл портрет для вел. кн. делать отказался. Демидову картину за 15 тысяч, которую он ему заказал, не хочет делать… Он какой-то получил крест от императора: он не носит, за что ему неоднократно кн. Гагарин делал выговор, — бесполезно. От всех работ, ему предложенных, отказывается… Хочет быть вне зависимости… От Карла все возможно…»
А Карлу всего важнее сейчас найти женщину — ту, что в последнюю ночь Помпеи пред лицом гибели прижала к груди дочерей: сминая найденные построения, она неудержимо и властно выступает вперед, завоевывая ей одной предназначенное место на полотне…
Она не просила его прийти, но стучалась к нему, требуя, чтобы он появился: она пришла сама, решительно распахнула двери и вошла к нему в мастерскую, в судьбу — графиня Юлия Самойлова.
…Юлия, возвратившись с прогулки, вбегает в свои покои. Здесь ее радостно встречают воспитанница Джованина и слуга-арапчонок, который подхватывает сброшенную небрежным движением шаль. Ее глаза, лицо, волосы, ее голубое атласное платье, алмазная корона-диадема на ее голове — все излучает свет, она вся светится и озаряет все вокруг. Движение Юлии Самойловой не просто стремительно — оно безостановочно: она продолжает идти так же быстро, как вошла, она не в силах остановиться, прильнувшие к ней девочка и арап движутся вместе с ней, она будто ослепительная комета, захватывающая своим притяжением всех, кто оказался поблизости. Так Брюллов написал ее однажды. По внешним приметам — парадный портрет, по замыслу, сюжету, композиции — портрет-картина, по чувству — сердечный портрет. Женщина бежит навстречу зрителям, но Карл-то знал, что к нему. Радость воспитанницы Джованины, восторг арапчонка передают, усиливают любовь и обожание, с которыми написана Самойлова: художник вложил в них то чувство, которое всего более желал выразить, и оно зазвучало от этого особенно высоко и сильно. Даже собачка в порыве восторга бросается к госпоже.
У Самойловой лицо итальянки — что-то общее в ней и с девушкой у фонтана, и с той, что собирала виноград в пронизанном солнцем саду, с теми женщинами, которые неизменно возбуждали в Карле желание написать их и которых он писал горячо и охотно. Но откуда этот густой зной в ее черных глазах, эта тяжесть черных волос, эта страстность движений и необдуманная живость жестов? Какой неожиданной смесью обернулась бродившая в ее жилах кровь обдумчивых литовских крестьян и несклонных к пылкости тевтонских рыцарей! Как необыкновенно соединились в ее натуре странности и прихоти своеобычных — от природы и от богатства — предков! Дед Самойловой по матери, граф Скавронский, внучатый племянник императрицы Екатерины Первой, был, по свидетельству знавших его, «великий чудак»: увлекался музыкой, сам сочинял «какой-то ералаш», в доме его разрешалось говорить только речитативом. Женился он на завидной невесте, владевшей таким же громадным богатством, как и он сам, — на Екатерине Васильевне Энгельгардт, племяннице Потемкина, одной из пяти красавиц сестер, которых сиятельный дядюшка нежно, хотя не платонически, любил. Дочь Скавронских вышла замуж за кавалерийского генерала, графа Палена, вышла романтически, — встретив сопротивление родных, кавалерист похитил девицу. Недолгое время, пока супруги не развелись, жена сопровождала генерала в походах: в простой крестьянской избе у нее родилась дочь, названная Юлией. После развода родителей Юлию взяла на воспитание бабка, Екатерина Васильевна, которая, к тому времени овдовев, вышла вторым браком за графа Литта; бездетный граф завещал Юлии все свое несметное состояние (прелестная подробность: однажды Литта не успел приготовить подарка к именинам Юлии и потому просто поднес ей… сто тысяч рублей). Юлия была взята ко двору фрейлиной, а затем выдана замуж за красавца флигель-адъютанта графа Самойлова. Брак оказался непрочным, молва упрекала Юлию Павловну в неверности, называя имена многих счастливцев, добившихся ее расположения. Расставшись с супругом, графиня Самойлова сделала своей «столицей» Графскую Славянку, старинное имение Скавронских неподалеку от Павловска. Сюда съезжался цвет столичного общества, верными рыцарями графини были кавалергарды-преображенцы, стоявшие рядом с имением. Императора Николая раздражали собрания в Славянке: это была вольность; до сведения графини доведены были высочайшее неудовольствие и настойчивый совет покинуть имение. «Ездят не в Славянку, а к графине Самойловой, и, где бы она ни была, будут ездить» — таков был ее ответ. Государь сердился. Она тоже рассердилась и, огорчив поклонников, укатила в Италию: холод северной столицы — «царство виста и зимы» — леденил ее горячую кровь. В Италии тотчас закружилась вокруг нее «новая Славянка» — друзья, поклонники, интересное общество: она жаждала Брюллова, прославленного, блестящего, всеми желанного: «Хочу весь кабинет свой украсить его чудесами!», а он и рад стараться — в том и жизнь, чтобы жить пылко, своевольно, широко, напропалую, — бросился навстречу ей с протянутыми объятиями.