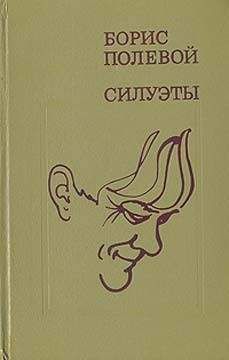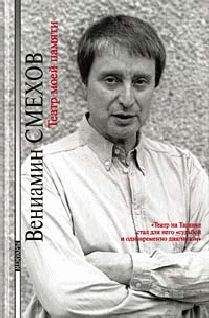Эта страсть однажды немножко даже подвела нашего доброго друга. Когда Нюрнбергский процесс перевалил за свое полугодие и началось лето, стал я замечать, что во время заседания трибунала на корреспондентских скамьях то тут, то там кто-нибудь из коллег клюет носом, а то и откровенно подремывает.
Лучше всех приспособился к этому трудному периоду изобретательный Всеволод Витальевич. Он приобрел не просто темные очки, какие были у всех у нас, а большие американские консервы, закрывавшие пол-лица. Темные очки особого устройства, на стеклах которых каким-то способом с внутренней стороны были нарисованы широко открытые глаза. Счастливый обладатель этих очков мог сколько ему угодно морщиться, жмуриться, дремать, спать — посторонние видели лишь его внимательный, заинтересованный взгляд.
Утром Вишневский озабоченным шагом проходил в зал, занимал свое место, раскладывал направо французские, налево английские, а к себе на колени русские переводы предварительных показаний, утыкал свое стило в блокнот и… засыпал. Получалось это у него великолепно, ибо, как известно, после ночной работы в жару спится особенно хорошо. Но даже если кто-нибудь глядел ему в лицо в упор, перед ним были глаза человека, внимательно слушающего, наблюдающего. Когда же начинался перерыв и сосед потихоньку будил Вишневского, внутри у того будто срабатывала какая-то машинка, и совершенно бодрым голосом он с чувством произносил:
— Нет, какие сволочи, какие мерзавцы… изуверы. — Это можно было сказать на каждой минуте процесса, и гневная эта реплика, как всегда, попадала в цель.
Но однажды его позабыли разбудить. Заседание закрылось, судьи удалились, увели преступников. Ложа прессы опустела. А он все еще сидел в напряженнейшей позе озабоченного человека, деловито уткнув перо в блокнот. Американского часового, стоявшего в дверях, это встревожило. Почему русский офицер в морской форме со множеством орденских ленточек на груди так задержался? Он осторожно подошел к нему и… услышал храп.
Тогда часовой легонько постукал своей дубинкой по креслу. Вишневский мгновенно раскрыл глаза и с пафосом воскликнул:
— Нет, какие же они все негодяи!
Но увидев над собой лицо чужого солдата, не знающего по-русски, быстро забрал свои бумаги и засеменил на выход…
— Не могу. Зверски устаю. Дневники меня доконают, — добродушно оправдывался он, когда начинали шутить по поводу этого инцидента.
На рождественские каникулы мы поехали с ним в Берлин. Поехали на машине, ибо Вишневский не любил летать. Наши части у зональной границы были предупреждены, что из Нюрнберга пройдет советская машина. Было сообщено и кто именно проедет. Узнав, что следует знаменитый Всеволод Вишневский, командир бронетанковой части выслал на контрольный пункт делегацию из двух героев части и хорошенькой девушки в лейтенантском звании.
— Нет, мы вас, товарищ капвторанг, не пропустим. Вы должны выступить перед бойцами и офицерами. Вас уже ждут в клубе.
Клуб размещался в большом здании кегельбана. Лотки, кегли и шары были убраны. Зал был уставлен разнокалиберными стульями. Прямо с дороги, отказавшись от угощения, Вишневский прошел к самодельной трибуне. Решительным жестом остановил вспыхнувшие было аплодисменты и произнес голосом Левитана:
— Товарищи! Братья и сестры! Родные советские люди! — И с ходу пленил аудиторию, овладел ею.
Наступила поразительная тишина.
Нюрнбергский процесс давал, конечно, богатейший материал о мерзостях фашизма. Но творчески реформируя этот богатейший материал, Вишневский рисовал прямо-таки апокрифические картины. И так как в рассказе его он выступал не только свидетелем, но и очевидцем и активным участником, рассказ этот, как сказать, добела накалил аудиторию. То, что в литературе называется «фактом присутствия», сообщало рассказу особую силу. Я сам был захвачен этой его речью, хотя он делал и меня свидетелем и участником событий, то и дело кивая в мою сторону: вот, дескать, это может подтвердить и сидящий здесь полковник Полевой.
Аудитория сидела покоренной. Вместе с ним восхищалась, гневалась, приходила в ярость, вместе с ним улыбалась в нужных местах, а когда дело дошло до рассказов об ужасах Дахау, об экспериментах над детьми, вместе с оратором и заплакала. И было странно видеть крупные почти детские слезы на суровых загорелых лицах ветеранов танкистов, прошедших через всю войну.
Я слушал и вспоминал: пронзительный талант, пронзительный талант…
Таким вот и сейчас, более четверти века спустя, встает в памяти Всеволод Витальевич Вишневский, драматург, писатель, мемуарист, оратор, — один из самых своеобразных людей, встретившихся мне на, увы, довольно уже длинном пути газетного репортера.
— Хотите, познакомлю вас с Павлом Корчагиным? — спросила меня однажды Мадлен Риффо — одна из героинь французского Сопротивления, поэтесса, боевая журналистка, а в те дни корреспондент прогрессивной французской газеты на Всемирном конгрессе профсоюзов, происходившем в Вене.
Странный вопрос этот был задан в ресторане «Венский парк». Здесь по талонам ужинали делегаты конгресса. Огромный ресторан, где в будние дни в пустых залах позевывали, опираясь спиной о дверные косяки, чинные официанты, в часы перерыва конгресса преображался. Здесь было шумно, тесно, и в тесноте этой звучали все языки, все диалекты, на каких только изъясняется человечество. Ресторан гудел, как рабочая столовка.
Поэтому когда Мадлен, с которой мы, советские журналисты, успели не только познакомиться, но и подружиться, сделала такое странное предложение, я сначала подумал, что ослышался.
— С Павлом Корчагиным?
— Да, но если быть точной, с Павкой.
— С героем романа Николая Островского?
— Если хотите, пожалуй, да.
— Здесь?
— Он делегат конгресса.
— Ну, знаете ли, Мадлен…
Признаюсь, я даже немного обиделся. Я знал ее биографию. Эта хрупкая девушка с точеным лицом боттичеллиевской мадонны сама могла стать героиней приключенческого романа. За несколько дней до этого, когда она рассказывала мне свою военную одиссею, записывая, я от волнения ломал карандаш, боясь что-нибудь пропустить. Но мы были недостаточно знакомы, для того чтобы учинять надо мной столь простодушный розыгрыш.
— Ну хотите пари на бутылку хорошего вина?.. Корчагин здесь, я вас с ним познакомлю, а потом втроем мы эту бутылочку и разопьем.
Разговор шел на большой оплетенной виноградом веранде, выходившей в парк. Осень уже дохнула на деревья. Как седина на висках, в зелени пробрызгивала красивая прожелть; листья лоз покраснели, стали жесткими, точно бы жестяными, и действительно, словно жестяные, стучали друг о друга, когда ветер трогал их. Один такой лист упал на стол и собеседница задумчиво разглаживала тонкими пальцами его желтоватую изнанку. Всех своих товарищей по делегации я знал. Среди русских не было человека с фамилией Корчагин. Что бы это могло означать?