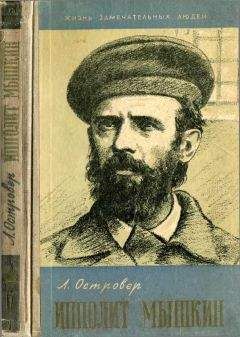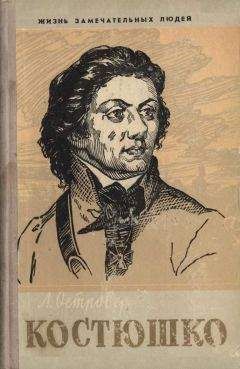Насколько нам известно, все наши вещи, книги и вновь получаемые посылки сложены в беспорядочную кучу в сыром амбаре и подвергаются скорому гниению, так что от них скоро, вероятно, останется одна гниль. Указываем на то, как на одну из мелочей, характеризующих отношение к нам и к нашим вещам. И все это держится в амбаре на основании будто бы постановления следователя о секвестре нашего имущества с распространением его даже на посылки, присылаемые нам родными после первых чисел мая.
Заявление это написано мною, Мышкиным, а не другим кем-либо собственно потому, что я принадлежу к числу тех немногих лиц, которые, несмотря на недельный голод, сохранили еще некоторые мысли; остальные же голодающие товарищи, из которых одни проголодали уже семь, а другие даже восемь дней, уже совершенно ослабели; написано это заявление не раньше, а лишь после такого продолжительного голода (он начался для одних 12-го, для других 13-го июля) собственно потому, что лишь сегодня мы получили возможность изложить мотивы, принудившие нас к отказу от пищи.
Ипполит Мышкин».
Июля, 19 дня, 1882 г.
Петр Алексеев.
Ипполит Мышкин.
Петропавловская крепость.
Карийская мужская тюрьма.
Шлиссельбург. Старая тюрьма.
Тринадцать дней продолжалась голодовка.
Как и предполагал Мышкин, заключенным вернули книги, чуть улучшили пищу, но какое это имеет значение для людей, мечтающих о борьбе за большую правду, а не о лишней крупинке в супе?
Об этом Мышкин и сказал товарищам:
— Нас будут душить постепенно, будут годами стягивать петлю, пока всех не передушат. Поймите, друзья, когда вы убедились, что нет никакого выхода, нужно бороться с самой безвыходностью. Мы должны быть морально неуязвимы для врагов. Несмотря ни на что мы должны иметь волю к победе, и мы победим!
И опять, как и в Ново-Белгородской тюрьме, вокруг Мышкина забурлила жизнь: пошли споры, диспуты, на лицах уже виделись улыбки, с губ уже срывались шутки.
Мышкин возобновил переписку с Софьей Лешерн. От ее записок веяло чистотой, доверием. Ипполит Никитич стал писать ей о самом сокровенном, о том, о чем он не говорил даже своим ближайшим друзьям.
«Как бы я хотел снова произнести речь, но такую, которую слышал бы весь мир, чтобы весь мир содрогнулся от тех ужасов, которые я расскажу! Ценой жизни я готов это сделать… Я показал бы им всех запытанных, замученных, сведенных с ума, я показал бы им прикованных к тачке: безумного Щедрина, Попко и Фомичева. О, как все это ужасно! Тем более ужасно для меня! Ведь они платят нечеловеческими муками за наш неудавшийся побег, за мой побег».
Стояло знойное душное лето, но записки Софьи Лешерн врывались в камеру Мышкина, словно порывы горного ветра. На каждую записку, самую коротенькую, он отвечал большим письмом, и каждое письмо было тематически законченное. Он писал о своей матери — от детских своих лет до последнего свидания в Мценской тюрьме, он писал о Фрузе — от их первой беседы в типографии до той душевной боли, которая послышалась ему в ее прощальных словах; он писал о своих муках, о своем желании во что бы то ни стало вырваться из мертвого круга и опять стать в ряды живых борцов; и если, писал Мышкин в этом письме, я не найду выхода из мертвого круга, то изобрету что-то такое, чтобы и смерть моя пошла на пользу нашему общему делу. И плакать по этому поводу не стоит! «Если не мы, то младшие поколения выполнят наши задачи! Наш долг передать им свой опыт, воспитать их борцами!»
И в этот же знойный июль 1883 года Ипполита Никитича Мышкина вызвали в контору, заковали, усадили в повозку и увезли в Иркутск, а оттуда в Петербург, в более надежную тюрьму.
Опять Петропавловская крепость. Но на этот раз не Трубецкой бастион, а мертвый, гиблый Алексеевский равелин.
— Разденься! — услышал Мышкин резкий голос.
Перед Мышкиным стоял жандармский офицер — коренастый, с молодецки выпяченной грудью и широкими ручищами. Донельзя было противно его бритое, мясистое лицо, толстые губы и выражение тупого самодовольства. Личность, которая может оскорбить, истязать, тиранить, может свести с ума, загнать в могилу.
— Разденься, говорю!
Мышкин понял, что перед ним наглый, бесчувственный, жестокий жандармский ротмистр Соколов, известный среди политических под кличкой «Ирод».
Мышкин невольно опустил руки. Ему стало ясно, что наступил предел его странствований. Теперь-то уж ничего худшего с ним не случится! Но… это худое было так скверно, что всякое утешение потеряло свою ценность.
«А ведь не один я в равелине, — подумал Мышкин, — сообща найдем управу и на иродов».
Эта мысль его успокоила.
— Надеюсь, не будем ссориться, — тоном выговора промолвил Ирод.
— Поведение заключенного зависит от такта смотрителя, — смело, даже дерзко промолвил Мышкин.
— Такта еще захотел! Я тебе такой такт пропишу…
Столько злорадства, столько бульдожьей свирепости было отображено на лице Ирода, что старенький капитан Домашнев, ведающий жандармами, счел нужным вмешаться.
— Чего вы, ротмистр, расстраиваетесь? Пусть разденут заключенного.
К Мышкину кинулись жандармы: стали раздевать, обыскивать, обряжать в арестантское.
36
Мышкин долго не мог заснуть. Может, оттого, что было еще рано, может, оттого, что было холодно, а более всего от тревожных мыслей.
Алексеевский равелин! Он не успел не только испытать, но даже познакомиться со всеми его прелестями, однако и того, что он уже испытал, было вполне достаточно, чтобы чувствовать ужас при одной мысли, что впереди ждут годы, долгие годы — четверть века (за побег ему еще надбавили 10 лет) — таких страданий и унижений. Так не лучше ли предупредить неизбежную развязку и избавиться от бесполезных страданий?
Но, подумал он тут же, имеет ли он право так распоряжаться своей жизнью? Принадлежит ли ока только ему одному?
Утро. Щелкнул ключ, дверь распахнулась, в камеру вошла целая толпа. Один взял лампу, другой переменил ведро, третий поставил на стол кружку с водой, четвертый положил кусок черного хлеба.
Завтрак окончен. Орава ушла. Мышкин сел на кровать, окинул взором все окружающее. Сумрак. Перед окном возвышается стена. В камере сыро, на стенах пятна.
Тихой чередой потекли мысли. В этой камере или в камере рядом, такой же мрачной и грязной, сидел Чернышевский! За таким же столиком писал он свой роман «Что делать?». Он не видел пятен на стенах.
«Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес…»