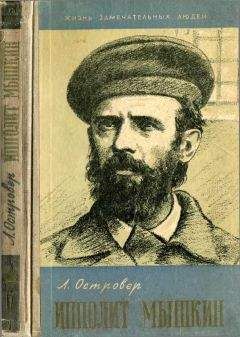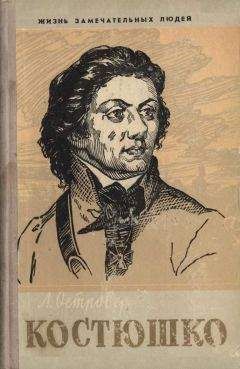На рейде много кораблей. Флаги — разноцветные, с крестами и с полосами. На берегу толчея: грузят на корабли, выгружают с кораблей, возят тюки из города, отвозят тюки в город. Грохочут цепи, гудят гудки, скрежещут лебедки. Около кабаков шумят пьяные матросы; китайцы стоят кучками и многозначительно молчат. Таможенные стражники и городовые шныряют во все стороны — прислушиваются, присматриваются.
Разговорившись с пожилым матросом, Мышкин узнал, что завтра в полдень уходит в Америку японский грузовой пароход.
— Берет пассажиров, — заверил матрос. — Для богатых у него кают нет, а вот для таких, как вы, найдется уголок.
И из сердца Мышкина ушла тревога: они заночуют у себя в трактире, притаятся, а завтра…
Хрущев купил два апельсина.
— Сроду не ел, — оправдывался он перед Мышкиным за трату из общего капитала. — Хочу попробовать, что это за фрукт. — Один апельсин он протянул Мышкину. — Получай свою долю.
Мышкин улыбнулся: ребенок.
— Можешь и мою долю съесть, я не люблю апельсинов. Вот приедем в Америку, я тебя там ананасом попотчую, вот это фрукт!
— Неужели вкуснее апельсина?
— Во сто крат!
— Чудеса!
Они вышли из бухты и переулками, где меньше народу, вернулись в трактир.
Мышкин распахнул дверь… и знакомое чувство опасности холодом влилось в сердце. Перехватило дыхание, потемнело в глазах: на стуле, поставив шашку между ног, сидел жандарм.
— Пожалуйте в управление, — сказал он, поднявшись.
Случилось то, чего Мышкин опасался: их опередили розыскные листы! Их ждали, за ними следили!
Вышли на улицу.
Мышкин заметил: шпики и городовые уже обхватили дом полукольцом.
Бежать было бесполезно, бессмысленно.
Шпиков и городовых увидел и Хрущев. Он взял
Мышкина под руку, прижался к нему плечом и от всего сердца, с радостной дрожью в голосе сказал:
— А все же, Ипполит, больше месяца подышали мы с тобой свежим воздухом.
35
В тяжелых кандалах — ножных и ручных — прибыл Мышкин обратно на Кару.
Его поразила тюрьма: охрана усилена, камеры перегорожены, всюду замки, запоры; товарищи угнетены, подавлены. Когда он вошел в камеру, его поразило: заключенные вповалку лежали на голых нарах. Один из них бился в припадке падучей, другие, хотя и здоровые, но до такой степени исхудали и пожелтели, что были похожи на мертвецов.
— Из-за меня, — сказал Мышкин.
Но товарищи, особенно Рогачев и молоденький Чернавский, его разубеждали:
— Не из-за вас, Ипполит Никитич. Это после одиннадцатого мая. Восемь человек бежало благополучно, а вот пятая пара нарвалась на часового… Все из-за Минакова, уж очень он горячий человек…
Мышкин ушел в себя. Бежать не удалось. Однако значит ли это, что он должен примириться со своим положением? Все в нем возмущалось, бунтовало.
А жизнь в тюрьме все усложнялась: тюремщики злобствовали. Выносить такой гнет, гнить заживо, без надежды увидеть свет было бы противоестественно: все думали о протесте, дело было лишь в том, в какую форму облечь этот протест и каким образом придать ему массовый характер.
Объявили голодовку.
На шестой день тюрьма представляла мрачное зрелище. На голых нарах лежали люди. Одни лежали молчаливые, неподвижные, с руками, сложенными на груди, с ногами, свисающими с досок под тяжестью кандалов, другие ворочались с боку на бок и глухо стонали. Глаза одних холодно блестели, как светляки темной ночью, потускневшие зрачки других, казалось, угасли навеки. Некоторые совсем обессилели, трупной синевой отливали их лица, другие же, побеждая усилием воли собственную слабость, старались словами утешения подбодрить менее стойких.
Произвело ли это зрелище впечатление на смотрителя тюрьмы, или он опасался выговора «за недосмотр», но на шестой день голодовки он предложил заключенным выбрать из своей среды двух делегатов с целью выяснить причины, вызвавшие голодовку. Выбрали Мышкина и Ковалика.
Шатаясь от слабости и зловеще бренча кандалами, направились два скелета к смотрителю тюрьмы. Говорить пришлось одному Мышкину: у Ковалика язык от голода одеревенел. Смотритель выслушал Мышкина и обещал доложить обо всем губернатору.
Прошел день, два — никаких результатов. Тогда Мышкин, почти не владея рукой, заставил себя написать:
«Господину коменданту тюрьмы государственных преступников
Государственного преступника Ипполита Мышкина от лица 54 человек, голодающих восьмые сутки в тюрьме.
Заявление
К тем стеснениям, каким мы подвергались и прежде, вроде, например, запрещения переписки с самыми близкими родными и высылки отсюда матери одного из нас за то только, что она, поддавшись вполне естественному чувству, послала через подлежащих властей, а не каким-либо запретным путем, письмо, написанное одним из заключенных, после 11 мая, ознаменованного беспримерно вызывающим и невыносимым отношением к нам местного начальства и казаков и избиением некоторых из нас, привлеченных за это же избиение к судебной ответственности, начали совершаться все новые и новые стеснения и оскорбления: нам брили головы, несмотря на то, что на многих из нас, особенно страдающих нервным расстройством и головною болью, операция эта действует очень вредно и предохраняющим от побегов средством она служить не может (Павел Иванов бежал из Красноярска с бритою головою); некоторых из нас заковали в наручники, чему не подвергался до сих пор никто из нас в тех местах, где мы содержались на каторжном положении; нам приходится подвергаться массе мелочных придирок и оскорблений; несмотря на словесное предоставление нам права улучшать пищу на собственные средства, в действительности это право оказывается совершенно фиктивным: мы просим купить масла, и нам три недели не покупают его, просим о покупке самой дешевой ягоды (голубицы), и нам отказывают в ней, как в роскоши, хотя эта ягода требовалась как противоцинготное средство; даже ложки и перец покупаются только после многократных, в течение 8—10 дней, напоминаний и просьб; одного из нас (Богданова) сажают в карцер и потом выпускают с объяснением, что он попал туда «по недоразумению», какой-то мелкий чиновник наговорил напраслину, а подобающие администраторы не потрудились немедленно проверить степень справедливости наговора и поторопились упрятать в кутузку оговоренного; мужья лишены свиданий с женами, приехавшими за ними с разрешения высших властей и подвергшимися этому запрещению без всякого повода с их стороны; мы, удаленные от родных, от всех близких нам людей на много тысяч верст, лишены права переписки с отцом, матерью, братом, сестрою, хотя этим правом пользовались те из нас и тогда, когда содержались в централках. Значит, это запрещение проистекает не от закона, а от произвола неизвестных нам начальствующих лиц; нас не водят на прогулки и весь день безвыходно держат в недостаточно просторных, зараженных разными испарениями комнатах; отсюда развитие цынготной болезни, причем нам не дают ни казенных противоцынготных средств, ни позволяют покупать на наш собственный счет; совершенное игнорирование наших просьб вроде приведенного факта о покупке припасов и подобных многочисленных однородных случаев привело нас, наконец, к тому, что в последнее время мы стали уклоняться от всякого обращения к ближайшим начальствующим лицам с просьбою об удовлетворении наших текущих, обыденных потребностей. И, наконец, после 11 мая, одно из самых первых мест принадлежит лишению нас права какого бы то ни было физического или умственного труда, лишению возможности иметь какие бы то ни было книги, и таким образом мы обречены на убийственное изо дня в день, с утра до вечера безделье, представляющее одно из самых гибельных условий, разрушающих здоровье и умственные способности. Многим краткосрочным из нас давно уже окончились присужденные им сроки каторги, и тем не менее их продолжают держать в тюрьме.