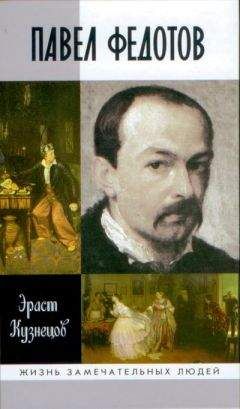Лиризм, неожиданно прорвавшийся в одном из листов серии, где все как будто основано было на насмешливом, отчужденно-ироническом взгляде со стороны, лиризм этот оказался нечаянным предвосхищением федотовских откровений поздней поры, выдал ту потребность, которая жила в нем, дожидаясь своего часа.
На «Следствии смерти Фидельки» Федотов вдруг прервал так бойко начатую и уверенно продолженную серию. Не то чтобы она ему прискучила — нет, оставались еще замыслы новых листов, и он намеревался к ним вернуться (и два года спустя попытался было, после чего забросил серию, и теперь окончательно). Просто наступила пора подумать о заветной цели — картине.
Было понятно, что с баталистикой покончено. Хоть и продолжал ходить в классы и рисовать все того же коня и вечных натурщиков в мундирах, но Зауервейд оставил его «своему собственному влечению», иными словами, будучи человеком разумным, предпочел не тянуть силком своего неверного ученика, тем более вольнослушателя, в такую лакомую и почетную область, как баталистика. Правда, Зауервейд 25 октября 1844 года неожиданно скончался, и на смену ему из-за границы спешно отозван был его ученик Богдан Виллевальде. Как сложились его отношения с Федотовым — неизвестно, но это и не важно, потому что Федотов уже решился расстаться с Академией художеств.
Художник Дмитрий Чарушин вспоминал: «В это время г. Федотов со мною сделался товарищем близким, и когда случалось рядом на скамье сидеть за рисунками во время класса, он ласково со мною говаривал касательно о художестве, и как-то раз он сказал: “Для меня уже довольно достаточно заниматься приобретением рисунка. Я думаю оставить классы и займусь масляными красками писать сцены народные. А Вы, г. Чарушин, постарайтесь приобрести рисунок, желаю Вам усовершенствоваться”, — и действительно, в скором времени он оставил рисовальные классы».19
Предстояло самое главное.
Момент подступил решительный. Его успехи, и успехи как будто немалые, были ничто в сравнении с тем, что предстояло одолеть теперь. Все менялось решительным образом — навыки, приемы, ухватки; даже самые орудия труда надо было заводить заново. Тут сильно помогла бы ему факторская, находившаяся при Академии художеств, но уже год как она была закрыта, и даже остатки ее имущества были распроданы по дешевке. Оставалось положиться на лавки.
Подыскал мольберт — без всяких модных штучек и нелепых усовершенствований, вроде пружинок, откидных лотков и отвесов, будто бы облегчающих труд художника, а на самом деле — только его кошелек; нет, самый простой мольберт, о трех ногах, упиравшихся в пол плотно и без вихляния, с двумя ровными рядами дырочек, просверленных спереди, чтобы быстро менять высоту упора. Выбрал палитру орехового дерева, гладкую, без единой трещинки; колебался между прямоугольной и овальной, взял овальную, показалась артистичнее и как-то сразу и легко села на оттопыренный большой палец и приладилась к руке. Завел муштабель, похожий на тросточку, — не дорогой, но все же снабженный маленьким костяным шариком на том конце, которым полагалось упираться в холст. Купил верштигель — похожую на детскую игрушку хорошенькую жестяную коробочку, блестящую хорошо отлуженными боками, с двумя отделениями, в одно из которых, наполненное маслом, следовало окунать грязную кисть, а об край другого эту кисть обшмыгивать. Приобрел и ладно сбитый, добротно протертый лаком ящик с множеством больших и малых отделений — складывать краски. Долго и пристрастно подбирал кисти, перебирая и ощупывая каждую, а иметь надо было никак не менее двух дюжин и все разных — от громадного пушистого флейца до тончайших, вроде тех, которые употреблял на выделку усов и бровей в своих «военных картинках», и щетинных, и мягких (да еще надо было выбрать среди беличьих, куньих, барсучьих и колонковых). Глаз разбегался, так все они были хороши: и те, что на палочках, и те, что в перышках, и те, что в трубочках, — ровные, заботливо подобранные волосок к волоску и любовно перевитые тонкой медной проволокой. Набрал холстов, натянутых на чистенькие подрамки, и картонов, сияющих белым ровным грунтом, и всякой мелкой ерунды, вроде мягких греческих губок и кусков ровно распиленной пемзы. Да еще стальной, звенящий при разгибании мастихин и шпатель из крепкого рога.
Долго сомневался насчет самих красок: всё было за то, чтобы не покупать готовых — мало ли что фабриканты, особенно немецкие, туда понамешают, — а самому по старинке растирать пигменты с маслом; так и искушенные люди в академии советовали, и здравый смысл подсказывал, и самому хотелось, и стало бы дешевле. Он уж подобрал себе хорошую плиту и курант как раз по руке — не стеклянные, потому что стекло, как ни береги, а ненадежно, и не мраморные, потому что мрамор все-таки мягок, но настоящего твердого камня; накупил свиных пузырей — хранить натертые краски, и самих пигментов, однако — время! время! — очень скоро смирился и свернул на удобное, как все сворачивали: стал покупать краски готовые, в тех же пузырях, или еще лучше, во входящих в обиход склянках, надежно укрытых провощенной пробкой и снабженных ярлыком с названием.
Самые эти краски отбирать было наслаждение и маета. Многих и многих десятков тонов, оттенков, сияющих чистотой цвета, то тянущихся друг к другу, то отталкивающихся, словно заклятые враги, — тонких, мягких, звонких, приглушенных, грубых, нежных, резких, то звучащих подобно флейте, то отдающих голосом трубы — и все с возбуждающими воображение названиями. Лишь некоторые из них были уже знакомы по акварели; приходилось тыкаться чуть ли не наугад, и пока приказчик отвешивал ему порции пигментов на маленьких деликатных весах с чашками, вздрагивавшими при малейшем прикосновении, и выставлял на прилавок пузатые склянки, он мучился: какой взять бакан — венецианский, турецкий или, может быть, патриотически предпочесть свой, ржевский. А какая черная будет лучше и для чего — косточковая или, может быть, слоновая кость, липа жженая или свечная сажа, виноградная черная или черная земля, или земля римская, или кёльнская, или, опять-таки родная, олонецкая: та теплее, та холоднее, одна зеленит, другая синит, та будто поплотнее, та — полегче; а как она разойдется в масле, как сядет на кисть, как ляжет на грунт, какой окажется, если ее растереть тонко по поверхности, и какой — если положить густо, тяжело; какие скрытые свойства обнаружатся, если смешать ее с другой краской, и какие — если неплотно перекрыть ее сверху, — и так во всем, одни загадки. Это уже потом, после года занятий, проб, неудач и собственных маленьких открытий, он разберется во всех тонкостях и поймет, что из чрезмерного изобилия требуется ему, в сущности, совсем немного, каких-нибудь десятка два красок, но тех, с которыми ощущают родство его насмотревшийся глаз и привыкшая к кисти рука. И с лаком приходилось терзаться, какой будет лучше — янтарный, спиртовой, китайский, или мастичный, или еще какой-нибудь; русский скипидар предпочесть или заморский терпентин? Куда как проще было с маслом — все советовали брать льняное, вареное, и кошелек охотно с этим мнением соглашался.