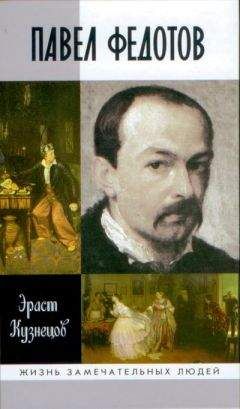Наконец, он даже приобрел манекен. Он был дорог безумно, страшно сказать как, но без манекена невозможно было обойтись, работая над картиной. Так он оказался хорош собою — чуть повыше ростом самого Федотова, отлично выточенный из крепкого дерева, отшлифованный мягко и послушно двигающийся во всех суставах и сочленениях, крепко держащий любую заданную позу, так вкусно золотилась его древесная плоть, что сразу он стал своим, едва внесли его в дом; немало шуток над ним и по поводу его было перешучено, немало прозвищ дано. А какое удовольствие было посадить его за столом рядом или — на диван, обрядив в женское платье и приладив к жестким неухватистым рукам гитару!
Что и говорить, сладкие хлопоты, волнения и переживания, но когда они завершились, надо было начинать то, ради чего все делалось, — приступать к масляным краскам, приступать скорее, потому что время не ждало, ему уже было тридцать, и он не молодел. Кое к чему присмотрелся в академии — походил в классы, копировал, что полагается на первых порах постижения живописной премудрости, потом заглянул и в манекенный класс, где после копирования надо было писать драпировки на манекене, потом и в натурный, где ставили уже обнаженную натуру, во всем поразобрался, понял, что проходить все ступени академической выучки немыслимо, что учиться все равно надо самому, в чем-то следуя академическим порядкам, в чем-то нарушая их, а главное, ускоряя их неторопливую последовательность. Научился же рисунку (пусть и не до конца, это он уже понимал), научился и акварели. Спору нет, покорить живопись будет посложнее, но и сам он уже не тот юнец, что бойко чиркал карикатурки и портретики десять лет тому назад. Он знал: главное — добросовестно, продуманно работать и себя не жалеть.
Он и не жалел. «На следующий год Павел Андреич стал реже бывать у своих приятелей. До нас изредка доходили слухи о том, что он приступил к масляным краскам, работает утром, вечером и ночью, при лампах или при солнечном свете, в академии или дома, — работает так, что даже смотреть страшно, не давая себе ни пощады, ни снисхождения, ни отдыха», — вспоминал Александр Дружинин.
Работ этого трудного 1845 года не сохранилось вовсе: десятками летели они в печку или шли Коршунову для использования по хозяйству. Быстро сообразил Федотов, что холстов не напастись, и перешел на грунтованные картонки — так и те употреблял по нескольку раз, без жалости соскребая только что написанное, еще не успевшее высохнуть.
Да и что сохранять было? Кому, кроме него самого, были нужны, кому интересны бесконечные пробы, штудии, копии одного и того же, этюды одних и тех же драпировок на манекене или просто на гвозде, вбитом в стену, — мучительные попытки, жалкие результаты, которые не то что показывать, а припрятать подальше от чужого глаза. От акварельных навыков мало было проку, масляные краски требовали совсем иного подхода, и не раз чувствовал он себя все тем же новичком, ни к чему не способным, и кисть валилась из рук.
Однако характер был крепкий, солдатский, было и самолюбие, разогретое встречей с Брюлловым и его словами, которые корявой занозой сидели в памяти. Прошел год, совершенно темный для нас, пытающихся восстановить жизнь Федотова, и тяжелейший для него, — прошел не без пользы. Настолько, что он даже сам себя перевел в следующий класс, «натурный»: «…для практики… переписал этою манерою портреты почти всех своих знакомых». Иными словами, продвинулся настолько, чтобы решиться посадить перед своим мольбертом кого-то, пусть и свойского человека.
Более того, он рискнул даже взяться за картину, для начала с минимальным числом действующих лиц — «несложную», как он определил эту ступеньку в созданной им самим системе самообучения. Может быть, и поспешил, потому что над картиной он, придавленный неопытностью, завязший в первоначальном решении, долго мучился, ковырялся, и она стала отставать от того, что, преодолевая неловкость и робость первых попыток, он со все возрастающей уверенностью добивался в портретах.
Безвозмездными натурщиками в школе постижения мастерства снова оказались друзья, приятели, знакомые. Часть составляли прежние — те, общение с которыми тянулось еще с полка. Правда, их стало меньше: кто-то незаметно отошел сам, с другими постепенно разводила судьба. Все были уже немолоды, всем было за тридцать, возраст трат сменялся возрастом приобретений, гвардейский лоск тускнел в их глазах, тянуло на сытую, спокойную жизнь, и они один за другим исчезали с глаз, удалялись в провинцию: Буассель и Орбелиани — в Волынский полк, Ган — в Полоцкий егерский, Фацарди — в Апшеронский пехотный, Кинович — в Белевский пехотный, Насекин Лев — городничим в Елатьму, Наседкин Иван — полицмейстером в Ярославль, Базилевич и Шмидт — в статскую службу, оба надворными советниками.
Все же прежних знакомых оставалось немало.
Те же Родивановские, все так же жившие в доме Эстеррейха по 18-й линии у самой Невы. С Иваном, правда, тоже пришлось расстаться — тот, едва Федотов успел в 1846 году написать его портрет (в гвардейском сюртуке, с каской на согнутой левой руке), тоже вышел из полка и уехал в Пензу подполковником корпуса жандармов; но оставались его брат Михаил и сестра Мария, а также сестра Анна вместе со своим мужем Семеном Пацевичем, который, кстати говоря, уже с 1840 года не служил в полку.
Те же вечные и любимые Ждановичи, тоже не изменившие дому Минстера по 6-й линии; Петр Владимирович, по-прежнему, несмотря на годы, служивший в строительном департаменте Морского министерства, его вторая жена Ольга Петровна, его сыновья Николай, Павел, Михаил и Георгий, его дочери Александра, Елизавета, Анна, Надежда и Ольга, свояченица Наталья Петровна Чернышева — обширное дружное семейство, но словно меченное злым роком и скошенное в течение какого-нибудь десятка лет, так что после кончины отца в 1858 году остались всего только две дочери, дожившие одна до 1904 года, а другая до 1915-го.
Те же братья Дружинины — Андрей, Григорий, продолжавшие служить в Финляндском полку, и Александр, оставивший полк, едва прослужив три года, и числившийся теперь по канцелярии Военного министерства, а душой преданный только литературе — он уже дописывал свою знаменитую «Полиньку Сакс».
Те же братья Львовы — Петр, вместе с которым Федотов учился и служил, и Николай, казначей Санкт-Петербургской таможни.
Постепенно заводились и новые знакомства. Федотов вовсе не был анахорет и мизантроп; назвав себя под конец жизни «одиноким зевакой», он имел в виду лишь свою собственную и уже безнадежную семейную неустроенность — окружающие интересовали и притягивали его, и ворчания Коршунова за спиной никогда бы не хватило, чтобы удовлетворить его «жадность до людей», в которой чисто художническая, все усиливавшаяся потребность вновь и вновь перебирать и тасовать лица, наблюдая повадки, разгадывая характеры, читая судьбы, соединялась с потребностью в общении, столь естественной для человека с его душевным устройством. Поэтому знакомился он легко и охотно и всем своим видом и поведением располагал к непринужденности и доверительности. Но по-настоящему близок был с немногими и в гостях бывал у немногих.