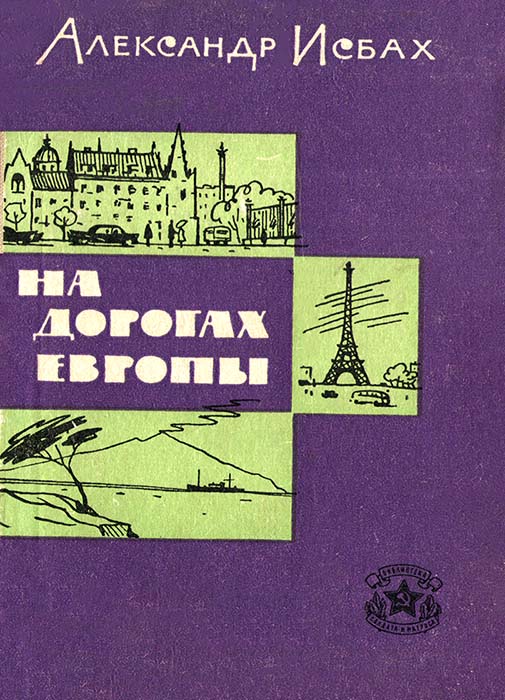темами или отвлечься от всего и делать надписи на могиле махизма?.. (Шум. Смех. Аплодисменты.)
Владимир Ильич Ленин хорошо знал мои дооктябрьские древние ошибки. И тем не менее доверил мне портфель наркома просвещения в первом советском правительстве. Ленин как-то сказал (и он на память привел неизвестную мне фразу Ленина, связанную с критикой махизма)…
— Позвольте, — вскочил «обвинитель». — Я хорошо знаю Ленина. Я не помню, чтоб он так говорил…
— Вам, — прищурил глаз Луначарский, — вам, молодой человек, он этого не говорил… А мне говорил… (Общий смех.)
Больше ораторов не было.
Проработку Луначарского мы сочли законченной. Хотя, правду сказать, парткому потом сильно нагорело «за либерализм и примиренчество»…
Но в те годы Луначарский все же оставался Луначарским. Еще было далеко до 1937 года…
Мы возвращались с собрания вместе с Яшей Ильиным. Медленно шли по Новинскому бульвару. Яша был необычайно задумчив.
— Не умеем мы еще ценить и беречь людей, — сказал он тихо и грустно. — Таких людей… И сколько нам это вреда еще принесет, старик… Сколько вреда!..
…Он умер на самой заре своей жизни, закинув якорь в далекое будущее. Зимой тысяча девятьсот тридцать второго года. Ему было только двадцать семь лет.
В этом году мне снова пришлось побывать в стране Калевалы.
На берегу быстрой Суны, обдаваемый жемчужными брызгами водопада Кивач, воспетого некогда Державиным, я вспомнил, как любил этого поэта Эдуард Багрицкий.
Он негодовал, когда молодые пииты пренебрежительно поджимали губы при упоминании одного из зачинателей российской поэзии.
— Да как вы смеете? — задыхался от возмущения Эдуард. — Лаврам Игоря Северянина позавидовали?.. Тогда уж отвергайте заодно и Пушкина. Нет, вы не знаете русской поэзии, не знаете и не любите.
И он снимал с полки маленький томик. И он читал нам:
Что ж ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снегирь?..
— Вы, конечно, никогда не читали державинского «Снегиря»? А «Ласточку»? «Ласточку» вы читали?
Молодым поэтам приходилось сознаваться, что они действительно не знают Державина.
А Багрицкий уже снимал с полки томик за томиком. Потом читал наизусть. Пушкин. Лермонтов. Шевченко. Баратынский. Бенедиктов. Блок. Вийон. Беранже. Эдгар По. Киплинг. Бодлер. Рембо…
Это была целая энциклопедия мировой поэзии.
Мы уезжали из Кунцева омытые волнами этой поэзии, низвергавшейся на нас как водопад, поэзии, без которой Багрицкий не представлял себе возможности жить ни одного дня, ни одного часа.
Все его жилище в старом кунцевском домике было заставлено аквариумами и клетками. О страстной любви Эдуарда к природе, к птицам и рыбам писалось уже много, и я не хочу повторяться. Эта любовь к природе связана была у Эдуарда с его неуемной пытливостью, с ненавистью к книжным червям, к гётевским вагнерам, с постоянным стремлением ко все новому и новому познанию жизни, ее законов, биологических и социальных.
Он рассказывал нам однажды о весьма примечательном разговоре с одним интервьюером. Тот позвонил по телефону.
— Что вы пишете сейчас?
— Исследую способы размножения рыб.
Газетный деятель в сердцах положил трубку.
А Багрицкий и не думал шутить. В этот день он был целиком поглощен рыбоводством.
Однажды он отказался приехать на заседание редакционного совета, где его очень ждали, потому что у него «рожала» диковинная рыба, «girardinus decemmaculatus», как гордо сообщил он по телефону ничего не понявшему секретарю.
Недаром он слыл одним из крупнейших знатоков среди натуралистов.
— А как же можно писать стихи, — изумлялся он, — если не жить, не узнавать, а главное — не жить вовсю!..
Он приехал из Одессы в 1925 году. Широкая публика еще не знакома была с его творчеством. «Дума про Опанаса» еще не была написана. Многие стихи его еще ходили только в списках. Но для нас, литературной молодежи, имя его уже было овеяно какой-то легендой романтика, искателя, новатора.
Не помню, по чьему почину (уж не Коли ли Дементьева?) мы впервые нагрянули к нему в Кунцево (а тогда это был не малый конец!), поражены были диковинными птицами и разноцветными рыбами в бассейнах с голубоватой водой. Поражены и самим обликом хозяина, седеющего, сутуловатого, огромного, с пристальным взглядом совсем молодых и добрых глаз.
Мы стали частыми гостями Эдуарда.
Багрицкий был беден, и в этом гостеприимном доме нам нечего было рассчитывать на угощение. Багрицкий был значительно старше нас, но с самой первой встречи исчезло это ощущение разницы в возрасте.
В то время уже существовало много литературных групп. Но гостями Багрицкого были и крамольные перевальцы, и ортодоксальные мапповцы (я в том числе).
Я за всю свою жизнь не помню человека, который так искренне, чисто, ну, что ли, бескорыстно, по-детски непосредственно и в то же время философски мудро любил бы поэзию и умел бы разделить эту любовь со своими собеседниками. Как хлеб…
Меньше всего он читал свои собственные стихи. Хотя писал в ту пору много и с новыми главами «Думы про Опанаса» изредка знакомил нас.
Но именно Багрицкий, а не вузовские наши профессора и доценты, дал нам почувствовать и Киплинга и Рембо. Никогда не забыть, как, кашляя и задыхаясь, читал он «Мэри Глостер», как возникал перед нами живой и страстный Рембо, о котором до Багрицкого мы и понятия-то не имели…
Вот он приподымается, Эдуард, на тахте. Ворот рубашки расстегнут. Полуседая шевелюра свисает на лоб.
…Ты плясал ли когда-нибудь так,
Мой Париж,
Сколько резаных ран получал,
Мой Париж,
Ты валялся ль когда-нибудь так,
Мой Париж,
На парижской своей мостовой,
Мой Париж,
Горемычнейший из городов,
Мой Париж,
Ты почти умираешь от смрада и тлена…
Кинь в грядущее
Плечи и головы крыш.
Твое темное прошлое —
Благословенно!..
…Слушай:
Я прорицаю, воздев кулаки:
В нимбе пуль ты воскреснешь когда-нибудь снова!..
И мне казалось, что я вижу юношу Рембо тут же в этой комнате, наполненной рыбами, птицами и стихами. И мне казалось, что, если бы Рембо перенесся в наши дни, он дружил бы не с Верленом, а с Багрицким и он не уехал бы в Абиссинию продавать оружие.
…А как читал он любимого Тараса Шевченко! А «Улялаевщину» Сельвинского!..
…В наших мапповских табелях о рангах Багрицкий считался тогда «левым попутчиком».
«Вожди» наши предостерегали от его конструктивистского влияния. Но мы никогда не говорили с Багрицким