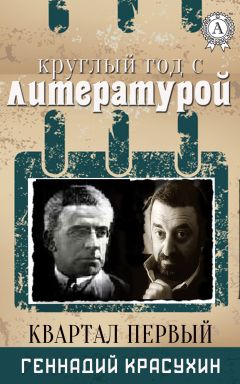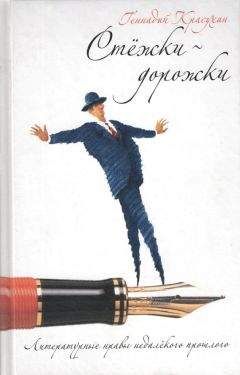И этого было достаточно для благосклонного прочтения.
Вполне возможно, что, читая эти строчки, Сталин вспоминал просьбу поэта в их телефонном разговоре о личной встрече. О чём бы он хотел с ним поговорить? – поинтересовался Сталин. «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Пришлось Сталину бросить трубку: небожитель!
Согласиться с многими, что был в жизни Пастернака период, когда тот увлекался Сталиным, – значит согласиться с этой сталинской характеристикой. Но небожителем Борис Леонидович только притворялся. Его близкие это знали. К примеру, его двоюродная сестра Ольга Фрейденберг, которой он писал 1 октября 1936 года: «…началось со статьи о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников и опять-таки лучших, как например, Владимира Лебедева и др. Я, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя всё своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но и трогать не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом ко мне отряжали товарищей из союза […] справляться о моём здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронду».
(Понимаю нынешних молодых: Пастернаку приходилось заступаться за Мариэтту Шагинян, Федина или Леонова? Но в то время эти трое не обслуживали режим с той одиозностью, с какой стали обслуживать позже. А позже «совершеннейшие ничтожества» на них и не накидывались: чуяли родственные души!)
«Чувствую я себя превосходно», – писал сестре Пастернак, запечатлевая избранную им тактику – прилюдно или в письме к вождю неизменно демонстрировать свою любовь и преданность ему.
Нет, у него демонстрация таких чувств не отдаёт холуйством, как, скажем, у Алексея Толстого или у Демьяна Бедного. Но вот, отказавшись подписать письмо с требованием расстрела Тухачевского, он в этот же день почти истерически, умоляюще объясняет в письме Сталину причины отказа: вождь может располагать его жизнью, но поэт не считает для себя возможным «быть судьёй в жизни и смерти других людей». Несомненно, что Сталин его письмо прочитал. И понятно, почему приказал включить Пастернака в число подписантов. Раз против расстрела Тухачевского тот не выступает, стало быть, сомневаться нечего – смело ставьте подпись этого небожителя.
Учтём ещё, под гнётом каких чувств жил Пастернак после суда над Бухариным. Сталин никогда ни о чём не забывал. Помнил он и кого особенно превозносил его враг. И похвала эта в любое время могла обернуться для Пастернака полновесным компроматом. Не меньшим, чем тот, каким отозвалось Сергею Есенину хвалебное слово о нём Троцкого. Но Есенин умер раньше, чем начали хватать граждан сталинские душегубы. Единственное, что мог теперь Сталин, – распорядиться, чтобы имя поэта почти исчезло из читательской памяти.
Но уйдя невредимым от зубов одного безжалостного зверя, он попал в пасть к животному куда менее кровожадному.
Хрущёв в своих «Воспоминаниях» сожалеет о случившемся. О, если бы он опомнился, когда властвовал! Сколько ушатов помойной, мерзкой критики было вылито на Бориса Леонидовича, виновного только в том, что он напечатал на Западе своего «Доктора Живаго».
Хорошо, конечно, что Хрущёв раскаялся. Но это не отменяет самого факта планомерного уничтожения Пастернака, у которого в конце концов не выдержало сердце. Он скончался 30 мая 1960 года.
* * *
10 февраля 1837 года погиб Александр Сергеевич Пушкин. В память о нём приведу стихотворение из моих самых любимых:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, снова, слова, слова.[1]
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданиями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! вот права…
* * *
С Мишей Рощиным, родившимся 10 февраля 1933 года, я познакомился, когда пришёл к нему, заведующему отделом литературы журнала «РТ-программы», в 1966 году наниматься на работу. Мы понравились друг другу. И работали, понимая друг друга с полуслова: мы были единомышленники, и оба одинаково радовались, если удавалось провести в печать такую вещь, какую читатель нигде уже прочитать не сможет: времена были ранние постхрущёвские, и цензура в Радиокомитете (а журнал был его органом) ещё не так свирепствовала, как в печатных органах.
Миша уже написал «Седьмой подвиг Геракла» – пьесу, которую поставят позже. А в то время был он не драматургом, а прозаиком. Хорошим. Его печатали в «Новом мире» Твардовского.
Правда, он до «РТ-программ» работал у них в штате. Но, как я в этом убедился, Твардовский был одинаково требователен ко всем – знакомым и незнакомым. Не напечатал и рассказ Рощина о медведе, который мне нравился. Миша огорчился, но следующую вещь снова отнёс в «Новый мир». «Им – в первую очередь», – говорил он мне.
Дружил Рощин в то время с Андреем Тарковским, который часто бывал у нас в редакции на нынешнем Никитском бульваре в том самом доме, где умер Гоголь, и где сейчас располагается библиотека его имени. С ними двумя мне нередко приходилось посиживать в Доме журналистов, который находился на противоположной стороне бульвара. Сидели до закрытия ресторана, перебираясь после к Николаю Глазкову, который жил не слишком далеко на Арбате.