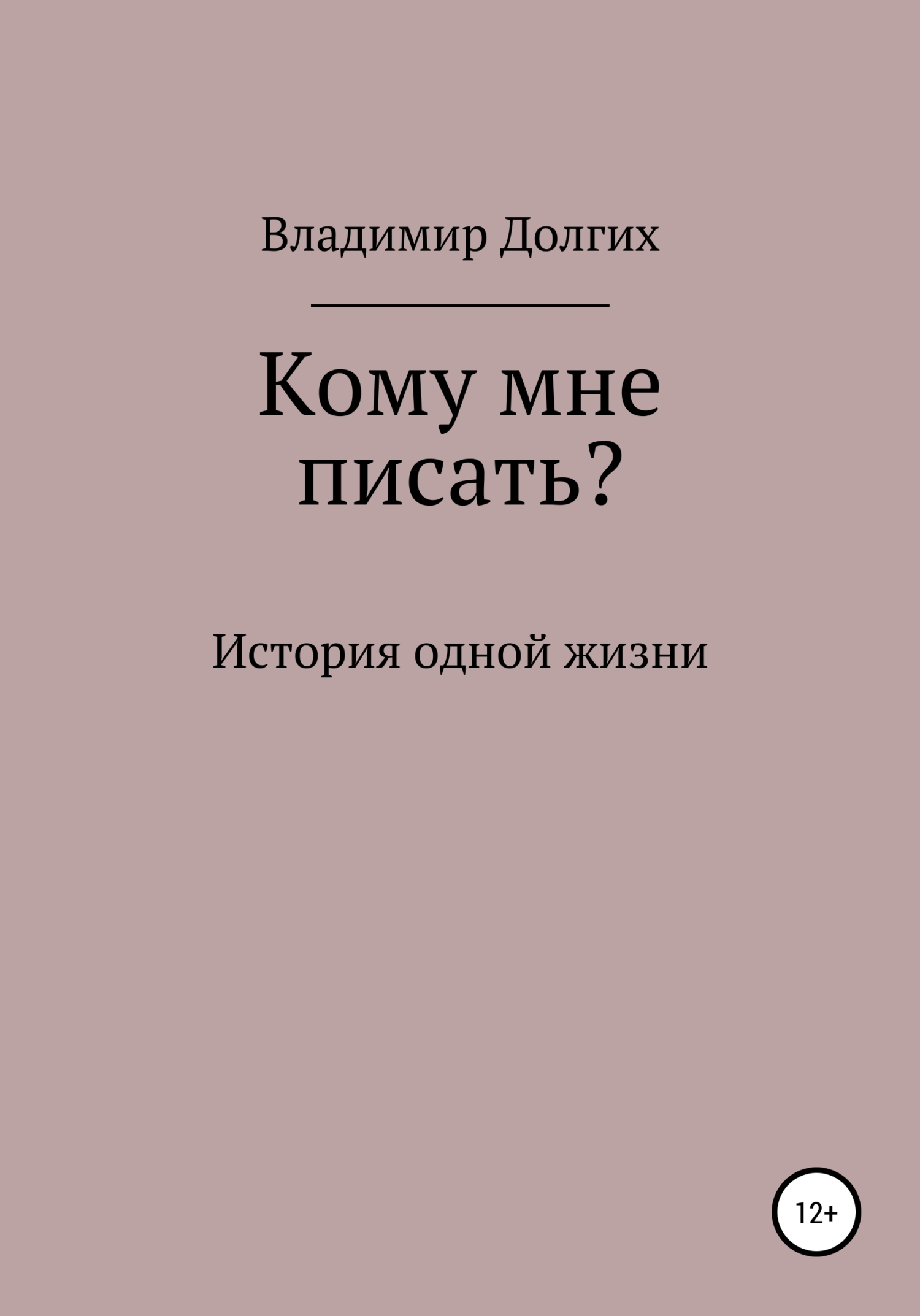Наше с Мюриэл знакомство, похоже, было предначертано судьбой.
Когда мы с Джинджер только узнавали друг друга под шум рентгеновских аппаратов «читального зала» в духоте, вони и грохоте «Кистоун Электроникс», она постоянно рассказывала о сумасбродной девице по имени Мо, которая работала на моем аппарате за год до меня. (Так она пыталась мне сообщить, что знает, что я лесбиянка, и ничего против этого не имеет.)
– Да, она была прям как ты.
– То есть как? Похожа, что ли?
– Обхохочешься, – Джинджер закатила круглые как у куклы глаза. – Она белая. Итальянка. Но что-то общее промеж вами есть: держитесь просто, говорите мягко. Только ты лихая-городская, а она нашего местного разлива. Поминала как-то, что до восемнадцати лет ей отец и воздуха ночного не давал нюхнуть. И стихи она тоже писала. Постоянно, даже в обеденный перерыв.
– Ясно, – я понимала, что история сложнее. Вот только Джинджер умолчала о том, что Мюриэл тоже любила девушек.
В последний раз мы с Джинджер виделись перед Мексикой. Тогда она и сказала, что ее подруга Мо вернулась в Стэмфорд, так как в Нью-Йорке у нее случился нервный срыв.
Пока я была в Мексике, Мюриэл потихоньку выбиралась из западни электрошокового лечения, в которую ее загнали. Когда она снова стала встречаться со своими друзьями в Стэмфорде, Джинджер тотчас же поведала ей о «чокнутой девице из Нью-Йорка, которая работала на том же аппарате и тоже писала стихи».
По приезде в Нью-Йорк меня переполняли солнце и решимость перетряхнуть свою жизнь и когда-нибудь снова отправиться в Мексику и, конечно же, к Евдоре. Я обосновалась на Седьмой улице в своей старой квартире в доме без лифта и принялась искать работу, от чего немедленно впала в уныние.
Однажды воскресным вечером зазвонил телефон. Ответила Рея.
– Одна из твоих девушек с клёвым голосом, – сказала она и с улыбкой передала мне трубку. Это была Джинджер, чей прокуренный тембр мог считаться каким угодно, но точно не клёвым.
– Ну что, ты как там, малыш? – начала она. – Тут с тобой кое-кто хочет познакомиться.
Она замолчала, потом раздалось хихиканье, а дальше высокий нервный голос произнес:
– Алло? Одри?
Мы условились о свидании.
Когда я открыла дверь в хмельные сумерки бара «Третья страница», было еще рано, и Мюриэл одна сидела за барной стойкой. Она не походила ни на кого, с кем мне доводилось пересекаться в Стэмфорде. Глаза у нее были светло-карие, крупные и миндалевидные, окаймленные густой темной тенью ресниц. Они выделялись на длинном, с впалыми щеками лице, которое казалось бледнее из-за обрамлявших его почти прямых, темных волос, ровно остриженных по-монашески, в виде чаши. Густые черные брови сходились у переносицы, как будто она вечно хмурилась.
Как обычно, я слегка запоздала, но она меня дожидалась. Мюриэл всегда казалась ниже ростом, потому что сутулилась – будто вот-вот согнется в три погибели. Левая рука, с сигаретой и бутылкой пива в ней, с широким серебряным кольцом на мизинце, гибко опирается на правую. Всё равно что поза эмбриона, только на уровне рук, – потом я пришла к выводу, что для Мюриэл она типична.
Черный свитер под горло, обтягивавший слегка круглившийся живот, пара шерстяных брюк со стрелками, черных, в тонкую белую полоску. Мягкий черный берет чуть набекрень, под прямыми густыми волосами – крохотные золотые точки в едва заметных мочках.
На баре рядом с ней лежала поношенная замшевая куртка, на ней – пара черных кожаных перчаток на меховой подкладке. В этих ее резких контрастах было что-то романтически-архаичное, а опрятные, до блеска начищенные оксфорды на шнуровке делали ее похожей на ранимую школьницу.
Я подумала, что вид у нее очень странный. Уже потом, припомнив дни с Дженни, когда мы шатались по улицам, ведомые своими приключенческими сценариями, я поняла: Мюриэл оделась азартным игроком.
То, что выглядело как неправильный прикус, оказалось просто щербинкой между передними зубами. Когда Мюриэл медленно улыбнулась, она обнажилась, и ее лицо от этого исполнилось нежности. Хмурая напряженность сразу исчезла. Я пожала ей руку – она была сухой и теплой – и увидела, как красивы ее ожившие глаза.
Я купила пива, мы перешли в переднюю часть бара и уселись за столик.
– В таких штанах только в карты играть, – сказала я.
Довольная, она застенчиво улыбнулась:
– Да, так и есть. Как ты догадалась? Немногие такие вещи подмечают.
Я улыбнулась в ответ:
– Ну, у меня когда-то была подруга, с которой мы много наряжались, всё время.
Удивительно: обычно я ни с кем не говорила о Дженни.
Она рассказала мне немного о себе и о своей жизни. Как приехала в Нью-Йорк два года назад, после того как ее подруга Наоми умерла, как влюбилась здесь, как заболела и вернулась домой. Ей было двадцать три года. Они с Наоми познакомились в старшей школе. Я сказала, что мне тридцать пять.
Потом я рассказала ей немного о Дженни. И той воскресной ночью в «Третьей странице» на Седьмой авеню мы с Мюриэл, сомкнув головы над небольшим столиком в переднем зале, вместе всплакнули о наших ушедших девочках.
Мы стыдливо обменялись тоненькими стопками стихов, которые каждая выбрала как оммаж для знакомства. На улице, прежде чем разойтись, пообещали друг другу писать: Мюриэл собиралась встретиться с Джинджер, чтобы с ней ехать на поезде в Стэмфорд.
– На, возьми мои перчатки, – выпалила она, торопясь на метро. – У тебя руки замерзнут по пути домой.
Я замешкалась, а она сунула кожаные перчатки мне в руки с почти умоляющей улыбкой:
– В следующий раз вернешь.
И исчезла.
Что-то в ее лице напомнило мне Дженни в тот раз, когда она отдала мне на хранение свои тетради.
Самым мощным и длительным, что осталось от Мюриэл после ее ухода, было ощущение ее сокровенной приятности, а еще – посильнее моей – уязвимости. Ее нежный голос противоречил ее внешности. Я была заинтригована этой смесью противоположностей, тем, что она и не пыталась скрывать свою слабость и вовсе не считала ее унизительной или подозрительной. Мюриэл источала тихое знание себя, и я его спутала с принятием себя.
Ее чувство юмора проявлялось внезапно и было очень притягательным, немного черным, а ее частые шутки оказывались проницательными и беззлобными.
С нашей первой встречи и без всяких объяснений Мюриэл заставила меня поверить, будто она понимает всё, что я говорю, и, учитывая тяжкий груз моей невысказанной боли, всё, что я не могла воплотить в слова.
Когда я, насвистывая, вернулась домой, Рея еще не спала.
– С чего это ты вдруг такая веселая? – шутливо спросила она, и