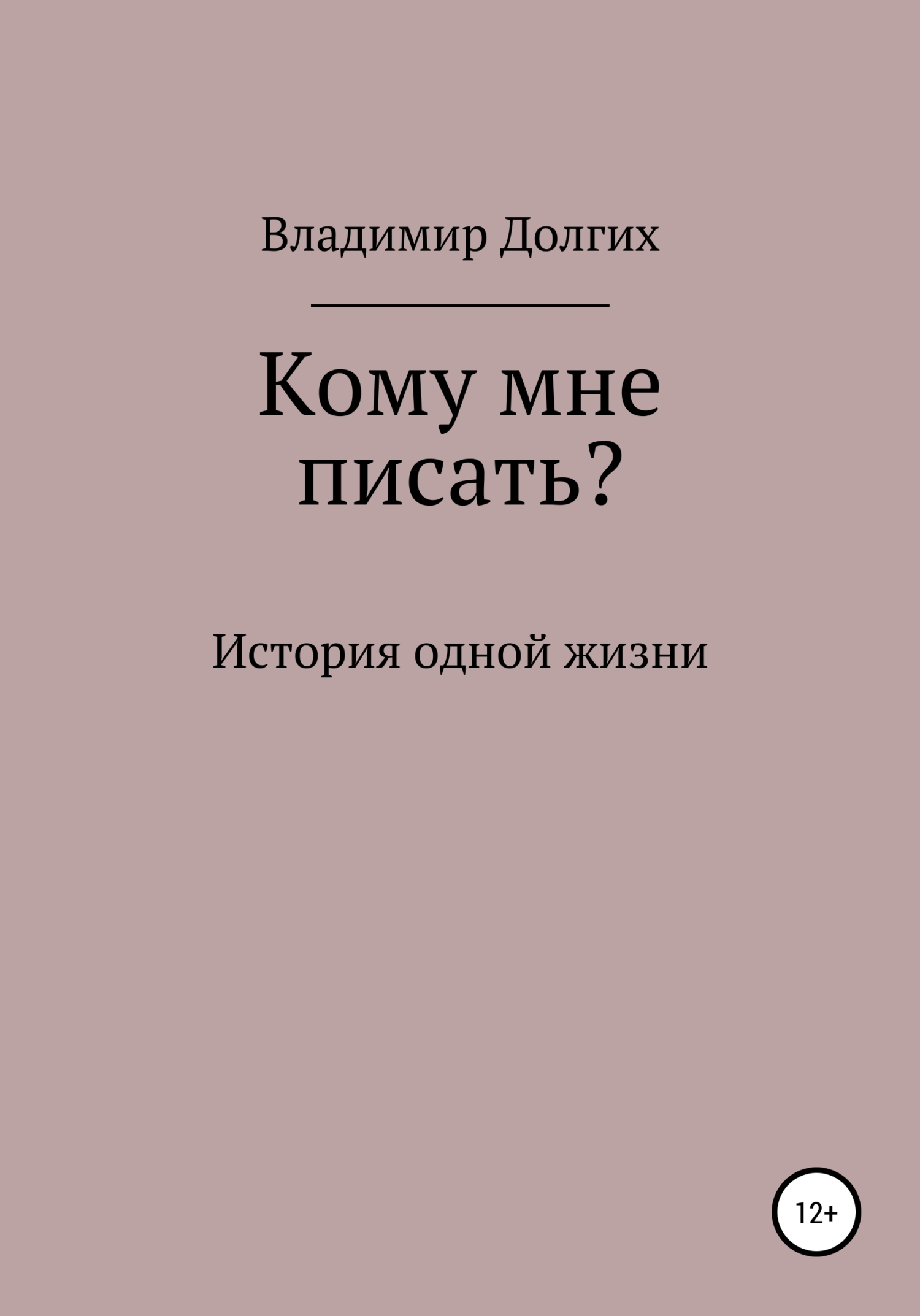я осознала, что впервые после Мексики почувствовала легкость на сердце и радостное волнение.
Через две недели, вечером в воскресенье, мы с Мюриэл вместе поужинали, а потом отправились в «Багатель». Шумный, многолюдный, клуб был отличным местом, чтобы сделать первый шаг, но мне всегда казался слишком изобильным и угрожающим, чтобы ходить туда в одиночку. «Лорелс», «Морская колония», «Третья страница» и «Свинг» именовались барами, но «Баг» всегда называли только клубом.
Хотя вечер только начинался, первый зал уже прокурили насквозь. Там пахло пластмассой, синим стеклом, пивом и хорошенькими девушками, уймой девушек.
Мюриэл заказала свою неизменную бутылку пива, я сделала то же самое, и всю ночь притворялась, что его пью. Мы с Мюриэл не танцевали, а крошечный танцпол в задней части клуба уже был битком. Стоя в проеме между столиками и танцующими, мы беседовали, и пили, и наслаждались тем, что нас окружают другие женщины – и некоторые из них, без сомнения, как и мы, пришли туда любить.
Вскоре я приохотилась к лесбийским барам вслед за Мюриэл, а она их обожала. Признавалась, что, приезжая в город, первым делом шла в бар. Нигде она не чувствовала себя такой живой, как там, они давали ей заряд жизненной энергии.
На самом деле нам обеим не хватало лесбийской атмосферы, и в 1954-м единственными известными нам местами встреч были именно бары.
Когда мы с Мюриэл переставали разговаривать, мы начинали чувствовать себя не в своей тарелке и пытались выглядеть крутыми и искушенными. Казалось, каждая вторая женщина в «Баге», кроме нас, имеет право там находиться. А мы, притворщицы, лишь прикидывались крутыми, модными и сильными, какими подобает быть лесбиянкам. Мы были абсолютно неприступны в своей застенчивости, и никто к нам никогда и не подходил, к тому же в те дни лесбиянки не особо стремились к общению вне своих тесных группок.
Нельзя было точно сказать, кто есть кто, и защитная паранойя после лет маккартизма ощущалась повсюду, где жизнь хоть сколько-нибудь отличалась от традиционной счастливой пригородной америки среднего класса. К тому же вечно ходили слухи о женщинах-полицейских в штатском, которые стерегли нас, выслеживали лесбиянок, на которых было меньше трех предметов женской одежды. Одного этого было достаточно для ареста за трансвестизм, тогда нелегальный. Слухи слухами, но большинство женщин обычно надевали лифчик, трусики и еще что-нибудь женское. Ни к чему играть с огнем.
Вечер закончился слишком быстро, и Мюриэл вернулась на свою работу на полставки в лаборатории по производству зубных протезов в Стэмфорде, обещая писать побольше скабрезных изобретательных писем.
Я всё еще искала работу, любую, и мрачность планов на будущее приводила меня в уныние. Я пережила Маккарти и войну в Корее, а Верховный суд поставил сегрегацию в школах вне закона. Но расизм и экономический спад оставались той реальностью, что мешала моему трудоустройству, хотя я целыми днями моталась по городу, отвечая на объявления о найме.
Куда бы я ни приходила, мне говорили, что я у меня слишком много опыта – кто хочет нанимать Черную девушку, отучившуюся год в колледже? – или недостаточно – как это ты не умеешь печатать на машинке?
Той осенью в Нью-Йорке работы не хватало всем, но Черным женщинам – особенно.
Я знала, что не могу себе позволить брезговать местом на очередной фабрике или за печатной машинкой. Подавала заявку на программу по обучению медсестер, но там ответили, что у меня слишком плохое зрение. Не знаю, диктовалось ли это заботой обо мне или было очередной расистской отговоркой.
Через бюро трудоустройства я наконец получила работу в больничной бухгалтерии, соврав о своих способностях в этой сфере, что было неважно, так как они тоже мне наврали – о будущих обязанностях. Я должна была стать вовсе не счетоводом, а девушкой-подай-принеси при главной бухгалтерше.
Миссис Гудрич, властная и внушающая благоговейный страх, первой из женщин штата возглавила бухгалтерию крупного госпиталя. За эту должность она яростно боролась, и былые сражения сказались на ее манерах – грубых и холодных – и такте, который попросту отсутствовал. В свободное время, когда я не была у нее на посылках, не бегала для нее за кофе и не точила карандаши, я сидела за отдельным столом около двери в комнату стенографисток и печатала страховые письма, пока меня не вызванивали для очередного задания. Я отвечала на звонки, пока секретарша миссис Гудрич обедала, и та костерила меня на чём свет стоит, пока я наконец не запомнила, с кем она хочет разговаривать, а с кем нет.
Миссис Гудрич была вспыльчивой, закаленной в долгих, тяжелых битвах за свое место в мире, враждебно настроенном к женщинам-бухгалтерам. Она добилась своего на тех же условиях, что и мужчины, с которыми воевала. Теперь она жила по тем же принципам, особенно когда доходило до обращения с другими женщинами. По какой-то неясной причине нас с ней объединило немедленное и глубокое взаимное отторжение. Как бы мы ни узнавали себя одна в другой, нас это не делало союзницами. Тем не менее позиции наши не были равными. Как моя начальница, она обладала властью, а я отказывалась отступать. Это было гораздо сложнее, чем просто антипатия. Ее отношение меня возмущало, однако, хотя миссис Гудрич находила меня явно бестолковой, она не стремилась выпустить меня, малька, в бассейн канцелярии, но и в покое тоже не оставляла.
Миссис Гудрич говорила мне, что я хожу, как лесоруб, и в коридоре от меня один шум. Я слишком спесивая, что мне точно помешает и не даст далеко пойти. Я должна научиться быть пунктуальной, хотя «ваш народ» вечно опаздывает. Так или иначе в больнице мне было не место: лучше бы уволилась и шла учиться. Во время одного из наших немногих любезных разговоров я рассказала ей, что не могу этого себе позволить.
– Ну тогда давай подтянись здесь, а то скоро на улице окажешься.
Я чувствовала подспудную неловкость, когда она рявкала на меня за ошибки в напечатанных документах перед всеми стенографистками, а потом звала меня в свой кабинет в другой стороне общего зала, чтобы я там подняла брошенный ей карандаш.
Я мечтала наступить ей на лицо, зажав меж пальцами ног ледоруб. Была как в западне и полна неистовства. Я устроилась на эту должность за неделю до Дня благодарения, и последние несколько недель обернулись агонией. Миссис Гудрич стала символом работы, которую я ненавидела (я так никогда и не выучилась нормально печатать), и ее саму я возненавидела с тем же пылом.
Больше всего мне не хватало солнца. На работу я ходила на запад через