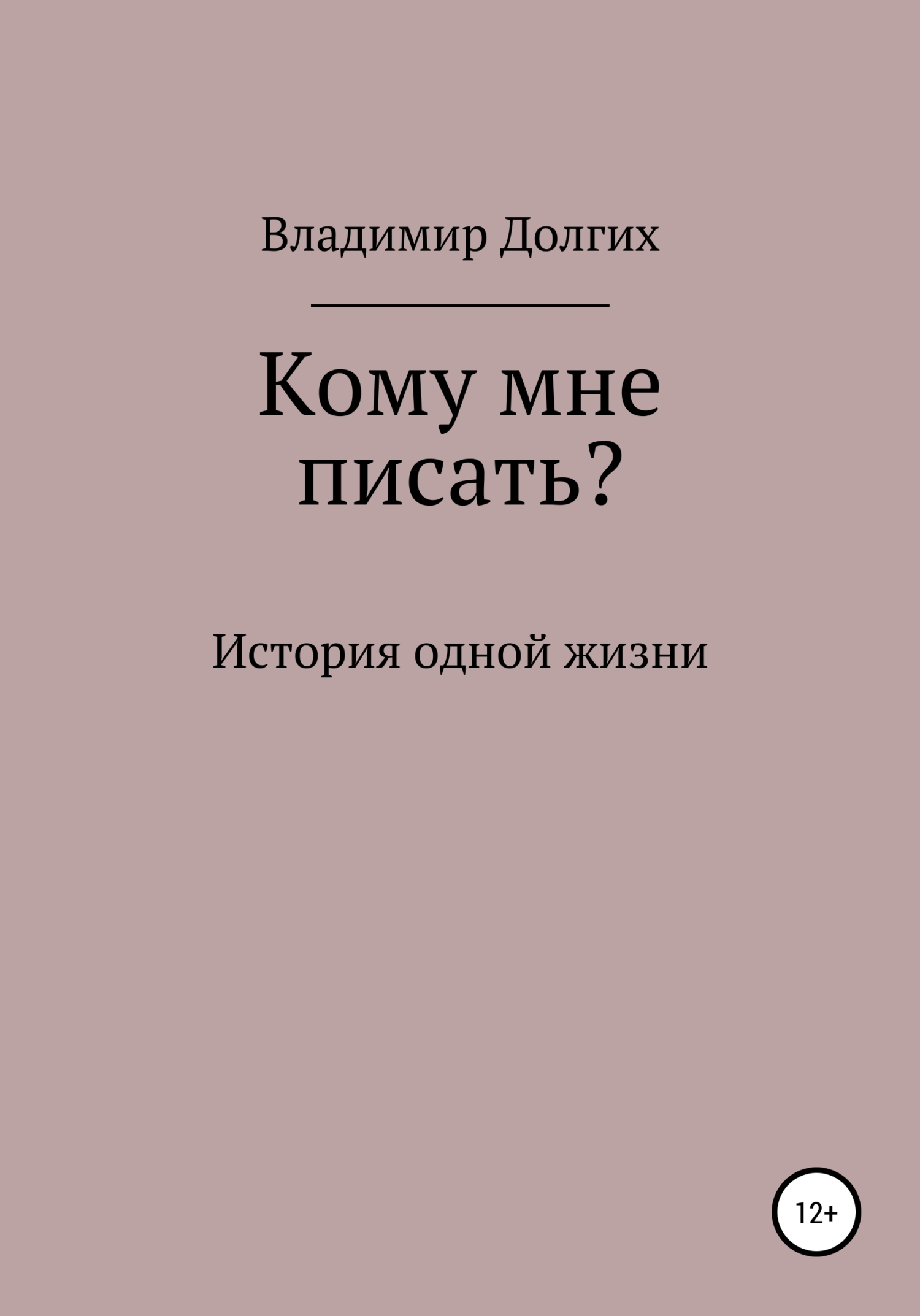Юнион-сквер и парк Стайвесант. Иногда мне удавалось поймать его блики над рекой, пока я переходила 14-ю улицу, но оно никогда не успевало подняться выше зданий, одно из которых, из серого камня, поглощало меня. А к концу рабочего дня солнце уже скрывалось из виду. В больничной столовой нас кормили бесплатно, так что выйти в обед я тоже не могла. Из-за этого, бредя домой зимними вечерами, я вечно тосковала, а задние фары машин на Второй авеню сияли себе огоньками елочных гирлянд. Я думала о том, что если до конца жизни буду работать в местах типа «Кистоун Электроникс» и Манхэттенского госпиталя, то сойду с ума. Я была уверена: есть иной путь – но не понимала, какой именно.
На работе моим единственным оружием было отступление, и я пользовалась им со всей неразборчивостью малолетней бунтарки. При каждой возможности и по любому поводу засыпала за столом, чаще всего – на середине письма, которое печатала для миссис Гудрич. В этой коротенькой дреме я набирала кусочки стихов или бессмысленные предложения посередине дежурных официальных фраз. Я никогда не перечитывала своих писем, а лишь любовалась ими как предметами искусства, пробегая глазами в поисках неправильных полей или зачеркиваний. Письма прибывали на письменный стол к миссис Гудрич напечатанными аккуратно и правильно, но с возмутительными вставками в тексте.
Уважаемый сэр,
Формы обращений можно получить странные боги поклоняются вечерним часам написав в Головной офис по адресу…
Мне снились кошмары о звонке, которым меня вызывала миссис Гудрич и за которым следовал ее зычный рев через зал, призывающий в ее кабинет.
Тем временем мы с Мюриэл продолжали переписываться. Вернее, Мюриэл писала длинные прекрасные письма, а я читала и перечитывала их в тишине.
Ее лирические, откровенные послания таили в себе голод и изоляцию, столь похожие на мои, и в них бесценным образом раскрывалось ее умение меня видеть, остроумное и кристально-ясное. Я восхищалась и радовалась тому новому взгляду на простые и неожиданные вещи, которым она делилась со мной. Смотреть на мир по-новому, через ее уникальную призму, было так же освежающе, как впервые взглянуть на него через детские очки. Бесконечные и волшебные открытия самого обыкновенного.
Мюриэл была полна боли от желания стать собой, которую я от всего сердца разделяла. Я знала, каково это – когда тебя преследует призрак той себя, какой ты хочешь стать, но чувствуешь его ты лишь отчасти. Порой ее слова завораживали меня, заставляя рыдать.
День тянулся вверх улиткой, но настал вечер; я мечтаю о тебе. Этот пастырь лишь прокаженный, желающий творить прекрасное, пока пережидает свое время отчаяния. Я чувствую новый недуг и узнаю его как лихорадку желания стать целой.
Мои руки слегка дрожали, когда я опускала письмо и наливала еще чашку кофе. Каждый день после работы я спешила к почтовому ящику, чтобы найти там новый толстый синий конверт от нее.
Медленно, но верно Мюриэл всё больше и больше становилась уязвимой частью меня. Я могла лелеять и оберегать эту часть, потому что она находилась вне. Она была застрахована от моих эмоциональных ставок, и внутри они оставались нетронутыми. С каждым письмом Мюриэл во мне расцветала потребность сделать для нее то, что я никогда не считала возможным для себя, даже если уже делала это.
Я могла бы заботиться о Мюриэл. Я могла устроить всё так, чтобы мир служил ей, если уж он не мог служить мне.
Без намерений, мало что понимая, из ветра и воронья я сотворила девушку как символ суррогатного выживания и влюбилась в нее, словно рухнув камнем со скалы.
Я посылала Мюриэл маленькие листочки, исписанные стихами. Некоторые были о ней, некоторые – о других, но какая разница. Мюриэл потом призналась мне, что тоже считала меня абсолютно безумной. Я считала дни от письма к письму, что приносили мне кусочки ее как особенные, долгожданные подарки. 21 декабря в ответ на ее мольбы и в честь солнцестояния я послала ей открытку с изображением греческой урны, полной камней, где было написано: «У меня, наверное, в голове булыжники».
Это означало, что я люблю ее.
Больше двадцати лет спустя я встречаю Мюриэл на поэтических чтениях в женской кофейне в Нью-Йорке. Ее голос все еще мягкий, а большие карие глаза – уже нет. «Я пишу развертывание своей жизни и своих любовей», – говорю ей.
«Главное, обо мне расскажи правду», – отвечает она.
Был канун Нового года, последний день 1954-го. Рея опять влюбилась, ушла на вечер и, видимо, на остаток ночи. Я засела читать, писать и слушать музыку, когда раздался звонок.
– С новым годом! – Мюриэл. – Будешь дома вечером старого года?
Голос у меня дрогнул от предвкушения и неожиданного сюрприза:
– Да, попозже друзья заглянут. Может, и ты придешь? Ты где вообще?
– Дома, но сажусь на следующий поезд, – я слышала ее теплый полусмех и почти видела струйку дыма и складочку меж бровями. – Есть к тебе вопрос.
– Что такое? – спросила я, сгорая от любопытства.
– Нет-нет, хочу сказать лично. Ну, я побежала!
Через два часа вошла она, в берете и с сигаретой. В квартире шум – смех, голос Розмари Клуни.
Эй, ты,
Со звездочками
В глазах
Тебя никогда
Любовь не дурила.
Я подбежала к ней взять куртку, сказала:
– Как же я рада тебя увидеть.
– Да? Это я и приехала узнать, потому что открытку твою не поняла. Что она значит?
Беа, Линн и Глория завалились ко мне с вином и травкой, и я представила их Мюриэл, наливая ей кьянти. Беа и Линн танцевали от талии к лобку в средней комнате, Мюриэл, Глория и я ели принесенную ими китайскую еду из картонных коробок.
За несколько минут до полуночи мы выключили дребезжащий переносной фонограф и включили радио – послушать, как ликуют на Таймс-сквер, встречая 1955-й, и попутно обсудить, как же всё это тупо. Мюриэл подарила мне «Властелина колец» Толкина, бестселлер андеграунда, который она украла, по ее словам, в книжном в Стэмфорде. Потом мы все расцеловались и выпили еще вина.
Снова выключив музыку, стали рассказывать дикие истории о других встречах нового года. Пришлось признаться, что это первая в моей жизни новогодняя вечеринка, но говорила я так, что никто мне не поверил.
К трем часам все решили, что останутся на ночь. В передней комнате я разложила двойную кровать Реи, а в средней – свой диван. Места хватало. Потом пришлось подсыпать Линн снотворное из моего запаса врачебных пробников, потому