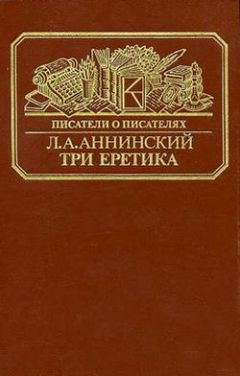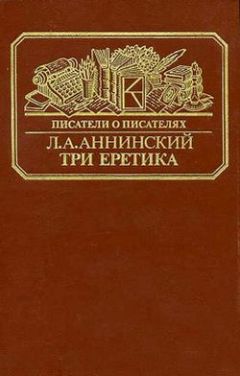Весной 1852 года рукопись уходит к Погодину.
Сам автор тоже чувствует, что предпринято нечто особенное. Он пишет Погодину письмо, в котором просит пустить «Красильниковых» не позднее мая, так как он, Мельников, как раз в ту пору будет в Петербурге и надеется «подслушать мнения» о себе, благо там никто еще не подозревает о том, кто такой «Андрей Печерский».
Еще несколько небезынтересных строк в том же письме:
«…Все истинно Русские, здесь жительство имеющие, с чувством особой признательности говорят о Вас и Вашем „Москвитянине“… А здешние господа, — видел я и Краевского, и Панаева, — мелко прохаживаются, да кричат глубоко…»
Вот так: Краевский уже «мелко прохаживается». Что же до Панаева, то по иронии судьбы именно он первым заметит и оценит в печати беллетриста Печерского.
«…Прощайте, Михаил Петрович, дай Бог Вам здоровья, которым дорожат все Русские люди, что ни говорили бы, а ведь Вы одни на плечах своих несете православные и самодержавные идеи в литературе. Помогай Вам, Господи…»
Что это? Политес предусмотрительного автора? Искренняя вера? И то и другое вместе — по логике «сосуществования пластов»? Письмо Погодину и повесть написаны одной рукой в одно время. Письмо, состоящее из официозных штампов, совершенно обязательных в разгар «мрачного семилетия»… И повесть, смысл которой долговечнее не только николаевской эпохи, но и «самодержавной идеи», вкупе с «православной», как они тогда понимались.
Смысл этот работает и сегодня, сто тридцать лет спустя после того, как недавний учитель, а затем объезжающий край чиновник для особых поручений при нижегородском военном губернаторе П.И.Мельников остановился в «уездном городе С.» посмотреть тамошний кожевенный завод.
«В уездном городе С. остановились мы посмотреть…»
Зачин, характерный почти для всех новелл и очерков Мельникова. И не только Мельникова в ту пору. Литература ищет опор. Опирается она столетиями и на библейские сюжеты, и на мифологию классической эпохи. Отпадают те опоры — может вступить в силу логика «путешествия», условность «рассказа очевидца», и прежде чем решается русский писатель раскрутить действие «из ничего»: «Все смешалось в доме Облонских», — укрыто бывает начало и формулой путевого дневника: «Я ехал на перекладных из Тифлиса…»
Мельников всегда прикрыт подобным зачином. Иногда зачин утяжелен, экспозиция затянута, читатель едва не заведен на ложный путь. Мельниковские тексты композиционно рыхлы; прежде чем понять, в чем, собственно, дело и за чем надо следить, некоторое время «рыскаешь»; но эта неопределенность искупается у Мельникова фактурной точностью письма и силой непосредственной наблюдательности.
Очерковая скрупулезность «Красильниковых» — это прежде всего полный отказ от гоголевской стилистической игры, соблазнявшей автора еще со времен «Елпифидора Перфильевича». Фактура грубая, «низкая» — прозрачная: фактура вас «ведет», вы колеблетесь, за чем следить: за тем ли, как приказчик, отпуская покупателем опойки, чертит на оконном цоколе крестики и кружочки, или за тем, какова девка–чернавка в доме Корнилы Егоровича Красильникова, или за тем, каково устроился сам купец в своем жилище: все крепко, все дорого и все невпопад–гипсовый Вольтер развернут «передом на улицу»: «Как от людей отстать? Попал в стаю — лай не лай, а хвостом виляй!..»
Много лет спустя биографы Мельникова скажут: вот кто еще до Островского открыл нам темное царство, и не в близком Замоскворечье, а в настоящей русской глуши!
Однако «темнота» этого царства вовсе не кажется непроглядной тьмой (что, впрочем, можно сказать и о пьесах Островского). По первому разговору она выглядит скорее народной сметкой и проницательностью. Во всяком случае, неграмотный и «темный» купец Корнила Егорыч дает губернскому чиновнику, заехавшему «в город С», такой блистательный урок по части статистики, что и годы спустя Добролюбов будет опираться на эти рассуждения в противовес официальной статистике, которая лжива насквозь. Теперь уже вы увлеченно следите за рассуждениями косноязычного купца. Перерод хуже недорода. Хлеб в цене падает — чем подушные подати платить? С горя мужик продает корову. А на базаре статистик, видя корову, ставит палочку: скота–де у них расплодилось. Другой год упал урожай — подорожал хлеб; поднялись промыслы; оправился мужик, оброк выплатил. На базаре — ни коров, ни телег. Господа статистики бух в колокола: видно–же падеж у них был, обеднял народ… Обеднял! Как же! Лежит себе на печи да бражку потягивает…
По ходу чтения у вас возникает ощущение странной реальности, которая все время выскальзывает из определений. Ощущение почвы, качающейся под бытием, официально и ясно утвержденным. Где тут «православная идея», где «самодержавная»? — думаете вы, пораженные таким открытием, — да тут ни одна идея не удержится… Меж тем внимание ваше неожиданно перекладывается еще на новый курс: возникает романтическая интрига. Сын старика, грамотей, университетский выпускник и умница, — изменяет делу, нарушает отцову волю, да еще и связывается… с немкой. С безродной немкой, веры «не то люторской, не то папежской», неважно, потому что по соображению Корнилы Егорыча это все едино: такая ли, сякая ли, одна нехристь. Еретица. Не стерпел старик — зашиб: за косу да оземь… «Насилу отняли… Зачахла. Месяцев через восемь померла…»
Ужас и омерзение, охватывающие вас при описании этой дикой расправы, еще далеко не все, что вы выносите из повести. Дело в том, что рассказано все это от лица старика Красильникова, и только от его лица. Возникает странный эффект: вы видите, что перед вами монстр, дикарь, зверь, палач… и одновременно видите, что это несчастный человек, отец, искренне, по своим понятиям, желающий добра своему сыну, по–настоящему страдающий за него и глубоко, непоправимо сломленный происшедшим.
Мелодия сквозь мелодию. Течение подспудное идет вспять очевидному. Ни слова от автора — все только от героя: его изуверство вы чувствуете и вопреки его точке зрения, и в странной связи с нею. И все это уживается. Нет, здесь не только Островский предсказан с его замоскворецкими монстрами — здесь и Лесков предсказан: «люди древнего письма», деспоты и насильники, искренне плачущие над псалмами.
О, русская душа… Хлябь бездонная под видимой жесткой непреклонностью! Дрогни хозяйская рука — и все кувырком, потому что работники — «сами изволите знать, народ — бестия», — смекнув про слабину, начнут «добро по сторонам тащить».
Отдает ли себе автор полный отчет в том, какую картину он, в сущности, рисует нам под видимым девизом твердости и ясности, как он формулирует, «православных и самодержавных идей»? Трудно сказать… Загадка художественной интуиции, спасительно уходящей от чрезмерностей рассудка? Сосуществование пластов…