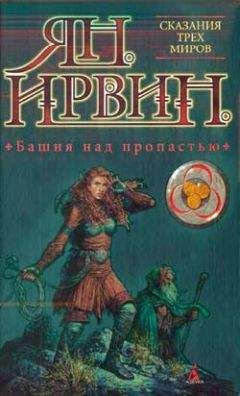его подробности, и они позволяют мне дополнить рассказ об этом бегстве, уже включенный мною в «Мою жизнь»; ныне стоит вернуться к нему.
С Охтинской пристани в Питере, где нас посадили на борт маленького пароходика, битком набитого пассажирами, предстояло плыть вверх по течению Невы к Ладожскому озеру. На побережьях среди густых лесов иногда, словно по волшебству, вырастали пустые дворцы, многие из которых были уже разграблены, и бескрайние парки, спускавшиеся к водам роскошными гранитными лестницами. Мучительная грусть витала над этими пейзажами, и пока пароходик проплывал мимо, никто из пассажиров не проронил ни слова. Лишь провожали взглядами, предчувствуя, что эти имения, эти парки, описаниями которых полна русская литература от Пушкина до Толстого, отныне принадлежат прошлому, и оно больше никогда не вернется.
Миновав крепость-тюрьму в Шлиссельбурге, мы плыли по Ладожскому озеру, крупнейшему в Европе. Из серой пелены, где небеса сливались с водами, выплывало призрачное видение – старый маяк; глаза ухватили большое открытое окно, выходившее на проржавевший балкон. Капитан одолжил мне подзорную трубу, и я, вглядываясь во внутреннее помещение, разглядела маленькую деревянную тележку, валявшуюся на полу. Должно быть, здесь когда-то играл ребенок, и вот мое воображение унеслось далеко-далеко… С ним была одна только мать, молодая вдова, изнемогавшая, одинокая, отверженная… Я крепко прижала к себе Ника.
А потом все вокруг – вода, небеса, берега – скрылось из глаз, окрасилось в розоватые и багровые тона – и несмотря на тревогу, мы все зааплодировали, словно были в театре. Путешествие по Ладожскому озеру слилось для нас в один бесконечный и величественный заход солнца в белую ночь. Не было никаких волн. Вода мягко плескалась вокруг, едва слышно что-то шепча.
Чтоб добраться до Петрозаводска на Онежском озере, надо было взять курс на реку Свирь, а в ней – очень сильные встречные течения. Оказался необходим буксир. Некоторое время мы шли пешком вдоль берега. Тут, в сельской местности, как на ладони протекала жизнь, тронутая нищетой: в неводах, привязанных к сваям, полно прорех, в обветшалых лавчонках нет ничего, кроме гнилой картошки, дети грубы и всклокочены. Несколько женщин мучились, стирая в реке белье. Только одна забавная подробность: носы у местных лодок были изогнуты, как лебединые шеи.
С нашего отплытия из Петрограда минуло уже три дня. Из Петрозаводска нам предстояло добраться к северу до Белого моря, куда британцы прислали свои войска для подкрепления армии сторонников царизма. Добираться поездом нечего было и думать. Путь слишком опасен: за эти места дрались красные – большевики и белые – монархисты. К тому же многие меня узнавали: ведь за последние годы мое лицо разлетелось по всей империи – оно было на почтовых открытках и в альманахах. В итоге мы решили воспользоваться старой, почти заброшенной почтовой дорогой – местами она пришла в плачевное состояние. Путешествие на телеге мимо деревень далось нам очень тяжело и продлилось десять нескончаемых дней.
Попадались по пути и деревушки, где крестьяне разве что краем уха слыхали про революцию; обрадовавшись при виде иностранцев, они делили с нами свой скудный хлеб. Но встречались и другие – там со своими лозунгами уже побывали красные, и на нас поглядывали с ненавистью такой тяжелой, что она казалась угрозой нашим жизням. Мы забывались тревожным сном, ложась куда придется или засыпая на голой земле. Негде было ни помыться, ни переодеться. Каждый вечер у нас над головами пищали тучи комаров. Измученный Ник плакал не переставая.
Однажды нам понадобилось на день арендовать лодку. Та, что нам предложили, имела вид столь плачевный, что мы отказались, опасаясь за жизнь малыша.
– А ну и потопнет ваш барчонок, шо ж делать.
Так и сказал нам пьяный мужик, у которого мы отказались нанимать лодку. Придя в ярость, я осыпала его ругательствами. Он попятился, униженно застыл, бормоча какие-то извинения.
На следующей пристани другие мужики, на сей раз вооруженные ружьями, заявили, что наши паспорта поддельные. Тут Генри осенило – он предъявил старый паспорт, подписанный Георгием Чичериным, народным (впрочем, скорее умеренным) комиссаром иностранных дел в большевистском правительстве. Этот документ не мог служить пропуском и не имел никакого отношения к нынешнему положению, однако он произвел впечатление на наших мужиков, ко всему прочему еще и полуграмотных. «Чичерин» – это имя оказалось магическим заклинанием, спасшим наши жизни. Имя «Чичерин» станет нашим «Сезам, откройся!» до такой степени, что, кого бы мы ни встречали по пути, Ник всегда радостно выкрикивал: «Чечин! Чечин!»
Зато еще через несколько дней нас выручил из беды уже документ, выданный Форин-офисом. Мы попали в деревню, занятую белыми войсками, прямо напротив Соловецких островов, что в Белом море. Орущая людская масса, сбегавшаяся со всех сторон, точно статисты в первой сцене «Петрушки», столпилась на причале, чтобы, усердно работая локтями, успеть вскарабкаться на палубу небольшого танкера, уже подымавшего якорь: он отплывал последним. Генри взгромоздил себе на плечи Ника, подхватил чемодан – весь наш багаж, и, крепко схватив меня за руку, помог одним прыжком перемахнуть с причала на корабль, отчаливший буквально в следующий миг. Я запрыгнула в самый последний момент, сложившись в «плие», дабы смягчить удар от прыжка. Мое «гран жете» незамеченным не осталось – меня поприветствовали аплодисментами.
Под надзором белых мы переплыли залив и достигли села Сорока, где стояли британские войска. Там нам предстояло взойти на борт судна, перевозившего уголь. Белое море сменилось Баренцевым, откуда мы взяли курс на Британию. Плыть на корабле в сильную качку, да еще в облаках угольной пыли – для меня это было уже слишком! Я болела всем по полной программе – приступами тошноты, переходящими в неукротимую рвоту, изжогой, головокружениями и икотой, – но Генри, которого даже самые драматичные ситуации не заставили бы утратить ни флегматичности, ни юмора, утверждал, что «вывести желчь» из организма – это влияет на цвет лица получше хорошего крема от Хелены Рубинштейн!
На исходе плавания мы под восклицания и радостные крики пришвартовались в Портсмуте. В целом мы преодолели две тысячи миль – на корабле, на лодке, на поезде, в запряженной телеге, верхом на ослике, пешком… Мы были грязны как трубочисты, зато живые и здоровые.
«Мы навсегда покидали Мариинский и Театральную улицу, чтобы завоевывать рампу нового мира», – этой фразой я закончила книгу «Моя жизнь». Нынешний мой рассказ продолжает ее. Чтобы обогатить его подробностями, мне пришлось за ушедшую неделю погрузиться в свои записи и мою переписку с Генри, а еще – в книгу «Тридцать дюжин лун», охватывающую годы нашей совместной жизни с 1913-го