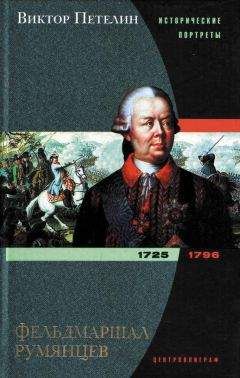А дома. Дома уже сидел стриженый сын и ждал отправки в армию. Проводили его – отваживался с женой, она у меня также бывшая солдатка и понимает, что к чему.
Сейчас сын находится уже на пути в Германию. И в эти же дни я получил письмо из Германии с извещением, что там намереваются издать мою «Кражу». Так сказать, полное содружество! Изувеченный немцами отец развлекает их художественными произведениями, а сын его на солдатских слезах и кусочках выращенный будет охранять мир и покой недобитых.
Загадочна и изменчива жизнь, не угнаться за нею мысли и духу художника, а уж просто обывателю тем более – он глотает жизнь, как склизкую галушку, лишь бы в рот попадало.
Как там со сборником? Прошел ли он цензуру, и если прошел, то когда может быть?
И еще. Закончился третий заход на «Пастуха и пастушку». Пока повесть гнет меня в дугу, и я отложил ее до осени, в надежде, что при шестом-седьмом заходе и я, поизносившийся чалдон, все же заломаю эту неподатливую девицу. Словом, зимой я ее хочу и хотел бы, чтоб Ваше любезное издательство включило ее в план 70-го года. Зная, что наше хозяйство, в отличие от прогнившего, иного! ведется по плану, я заранее и заявляю об этом. Повесть шесть листов, и хочу я ее издавать без довесков – одну. Когда надо будет заявку, скажешь ты, я ее сочиню.
Как твоя молодая семейная жизнь протекает? Остается ли время читать газеты и книжки, хоть изредка? Если да, то читал ли ты роман Абрамова «Две зимы и три лета»? А также повесть Нагибина «На кордоне»? Хотелось бы знать твое мнение на икий (на этот?) счет. Меня эти вещи по-настоящему взволновали. Несмотря ни на что, литература наша идет вперед и совершенствуется! И это, видимо, процесс уже необратимый, чему я шибко рад, жму твою молодосемейную – Виктор».
<18.05.68> (Датируется по штемпелю на конверте.)
«Дорогой Виктор!
Еще до твоей открытки из Вашего любезного издательства пришла открытка с тем же сообщением, что и в твоей, и я написал, чтобы деньги мне перевели на Бутырскую сберкассу, там еще с курсов остался мой счет незакрытым и, может, бухгалтерия это уже сделала? Очень был я удивлен и обрадован вниманием Вашей бухгалтерии. Говорят, театр начинается с вешалки, а издательство – с бухгалтерии. Значительно, безмерно отличается Ваша бухгалтерия от «молодогвардейской», там ханы сплошь и необязательные работники, которые платят деньги, делая вид, что ты их вынимаешь воровски из чьего-то кармана.
Живу я все в деревне. Доделываю сценарий по «Звездопаду». Сначала не ладилось и не хотелось делать, а потом пошло, и если дойдет до фильма, и снимут его так, как сделан сценарий – будет потрясающе! Говорю тебе это не для хвастовства, а потому что вижу и еще потому, никогда не сможешь убедиться в том, что соврал я тебе или нет.
Нашел, для отдыха и разрядки, два коротких рассказа для детей. Вот прелестная работа! За каким я чертом бросил писать для детей?! Жил бы, как Агния Барто или классик Эфетов, ходил бы золоте, здоров был и бесценен.
Здоровье, кстати, нормально. В деревне я всегда чувствую себя хорошо и работаю плодотворно.
С 4-го по 8-е в г. Киеве встреча ветеранов нашей дивизии – удостоен! Тороплюсь доделать все дела и отправиться, на обратном пути – в середине сентября заеду в Москву. Может, к той поре появятся «Сумерки» и мы их как следует обмоем?! Привет твоей супруге и маме. Поклонись Нине Дмитриевне, Вашим добрым работникам бухгалтерии, тех. отдела и Капустину Жене. Жму – Виктор.
Дочка собирается сдавать на заочное в Пермский университет, боится в Москву ехать – провинция! Спасибо тебе за память!»
<19 августа 1968 г.> (Датируется по штемпелю на конверте.)
«Дорогой Виктор!
Я, кажется, перехвалил Ваше издательство и пропел ему преждевременные дифирамбы. А это наказуемо в наше время.
Я прилагаю тебе справку из бухгалтерии, по которой выходит, что получу я еще 100 рублей резервных и на этом – кресты.
Я, к сожалению, плохо разбираюсь в расчетных делах, но чувствую, что что-то со мной обошлись не очень справедливо.
Наверное, следовало перезаключить договор на массовый тираж, как это делалось в «Молодой гвардии», и я-то подумал, что в каждом издательстве, как в Вятке – свои порядки.
Словом, как-то так получилось, что я рассчитывал за книгу получить больше и на этом строил соответственно свои дальнейшие планы.
Я знаю, что ты из издательства ушел (в журнал «Молодая гвардия». – В. П.), но по старой памяти помоги мне разобраться в этой бухгалтерии, и, если ты найдешь, что со мной обошлись несправедливо, я воспользуюсь своим единственным правом, правом самому распоряжаться своими рукописями, и этому издательству больше ничего не дам.
Я вообще начинаю думать, что мне надо отступить на исходные позиции и издаваться на периферии, где меня никто не надувает и крови не портят.
Честолюбие потешил – и будя!
На сим деловую часть закончил – перехожу к лирической. Живу дома почти один – жена уехала в санаторий. Пробую работать, но одолевает текучка, особенно рукописи. Я их прочел много и все похожие, в том числе и Сбитнева «Тростинка...». Стоят у нас страшные морозы, простыл, кашляю, горло болит, но «Пастушку» все же прижимаю, и она меня жмет, кто кого дожмет – пока не знаю.
Как тебе на новом месте работается? Шлю привет твоей супруге и маме! Всех и тебя, в том числе, с наступающим Новым годом».
<10.12.68 г.> (Датируется по штемпелю на конверте.)
Но даже и в письмах – лишь малая часть того, что мы пережили в то время, лишь, так сказать, контуры, внешняя оболочка, без ядра и содержания. Главное – это разговоры, и не в узких коридорах на Гнездниковском, а или в шашлычной «Казбек», или – чаще всего! – в ЦДЛ, где можно было встретить чуть ли не всех авторов «Советского писателя», особенно в дни выплаты гонораров. Ну а уж если нужно всерьез поговорить о рукописи и обсудить дальнейший ход работы, то я приглашал к себе в холостяцкую квартиру, где хозяйничала моя мама, всегда радушно встречавшая моих гостей. У нее была своя комната, она нам не мешала работать, только через час или два ход наших яростных споров и разговоров чуть-чуть прерывался: мама деликатно стучала ко мне, заглядывала в дверь и сообщала:
– Витя! Я селедочку почистила... Ставить картошку на плиту?
И, глядя на мою маму, и Анатолий Иванов, и Василий Белов, и Петр Проскурин, и Владимир Карпенко, и многие другие вспоминали своих матерей.
– Конечно, мама, пора, мы проголодались...
Как только мы заканчивали обсуждение той или иной рукописи, я выходил на кухню, а там уже все готово для того, чтобы подавать на стол нехитрую закуску. Оставалось только сбегать за бутылками, магазин же был совсем рядом. Вот тогда-то и начинались разговоры о судьбах России, о засилье цензуры, о которой с ненавистью писали чуть ли не все мои авторы, о гнетущей обстановке, которая мешала свободному развитию литературы, общества. Если бы все это застенографировать и заснять скрытой камерой – был бы бесценный документ, свидетельствующий о том, что именно эти разговоры готовили перемены в России, а не диссидентский лепет, именно в произведениях Василия Белова, Виктора Астафьева, Евгения Носова, Анатолия Иванова, Петра Проскурина, Михаила Алексеева и многих других предстала Россия в ее неприкрашенном свете, могучая и бессильная, опутанная бесчисленными нитями обязательств перед другими народами и государствами.