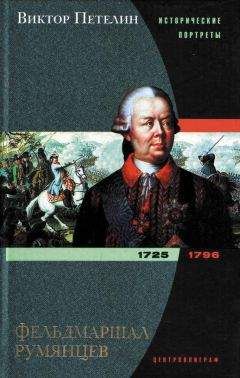Шолохов рассказывал о своих заграничных поездках, отдавал должное дорогам, которые там сохраняются в идеальном порядка. Видимо, был этот вопрос для Шолохова очень актуальным.
Минут за десять до отхода поезда в депутатской комнате собралось уже довольно много значительных чиновников, государственных и литературных, нас с Фирсовым оттеснили на третий план. Все вместе вышли на перрон. Шолохов шел впереди. И все узнавали его, останавливались, смотрели вслед. У вагона стали прощаться. Очередь дошла и до меня. Крепко, по-русски расцеловались, и Михаил Александрович скрылся в вагоне, через несколько минут встал у окна своего купе.
Книгу «Гуманизм Шолохова» я подарил Михаилу Александровичу одному из последних: книга вышла в начале 1966 года, и я с небывалой до сих пор радостью (первая моя книжка вышла до этого в 1963 году в «Искусстве» – «Метод. Направление. Стиль», о чем уже упоминалось здесь) рассылал ее во все стороны: Белову – в Вологду, Анатолию Иванову – в Новосибирск, Астафьеву – в Пермь, Носову – в Курск, Григорию Коновалову и Николаю Шундику – в Саратов, Владимиру Карпенко – в Астрахань... Уж не говорю о своих московских авторах... Эта книга поставила меня в ряды русской писательской дружины. Встал вопрос о приеме в Союз писателей СССР. Я попросил рекомендацию у Кузьмы Яковлевича Горбунова, внимательно прочитавшего книгу и наговорившего мне много добрых слов. У кого ж брать, как не у единомышленника.
– Виктор Васильевич! Я-то рекомендацию вам дам с удовольствием, но она может всерьез повредить вам при рассмотрении вашего приемного дела. Я бывал членом приемной комиссии, знаю, как все это делается, возьмите у кого-нибудь менее окрашенного в русские, патриотические тона. Я для нынешней комиссии как красный цвет для быка.
– Нет, Кузьма Яковлевич, тем более я прошу рекомендацию у вас.
Вторую рекомендацию я попросил у Бориса Ивановича Соловьева, который был контрольным редактором моей книги и по поводу нашей совместной работы тоже высказывал немало лестных слов. Но и Борис Иванович тоже пытался охладить меня серьезными предостережениями, что и его рекомендация вызовет у членов комиссии, мягко говоря, неоднозначное отношение...
– Ты ж не знаешь, Виктор Васильевич, какие сражения происходили в Союзе писателей, особенно в конце 40-х – начале 50-х. Чуть ли не стенка на стенку шли, и я не скрывал своих мнений, открыто высказывал то, что думалось по тем временам. Думаешь, они забыли? Нет, и моя рекомендация только помешает вам вступить в Союз писателей...
«О господи! Что же такое происходит? Говорят, что книга неплохая, а могут не принять. На каком основании?» – думал я, все-таки настаивая на том, чтобы Борис Иванович дал мне рекомендацию, если это не противоречит его внутренним убеждениям.
Нет, внутренним убеждениям не противоречит, сказал Борис Иванович, но предупреждает, что это ничего хорошего не принесет рекомендуемому.
Итак, две рекомендации есть. Для укрепления своих притязаний на вступление в Союз я попросил рекомендации еще у двоих моих друзей, слывших в то время либералами, – у Валерия Осипова и Олега Михайлова, которые тоже не замедлили со своими страничками. И я с четырьмя рекомендациями отнес свое заявление в Московскую писательскую организацию, где одним из секретарей работал Василий Петрович Росляков, добрый гений моей творческой судьбы. Он-то и убедил меня, что нет никаких сомнений в исходе этого дела. Две книги, опубликованы статьи в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Дружба народов», «Огонек», в газетах «Литература и жизнь» и «Литературная газета»... А ведь частенько принимали критиков и литературоведов по двум-трем статьям. Так что... И дело пошло своим чередом по давно заведенному порядку.
Успокаивали и письма, которые я получал от Виталия Закруткина, Григория Коновалова, Николая Шундика, Владимира Карпенко, которые благоприятно отзывались о моей книжке.
В этом отношении наибольший интерес представляет письмо Владимира Карпенко, автора очень симпатичной книжки «Отава», вышедшей в нашем издательстве, и романа «Тучи идут на ветер», над которым мы работали в середине 60-х годов. Это роман о Гражданской войне, об одном из героев этой войны, сложнейшем характере и противоречивейшей личности, о Борисе Думенко, победы которого в боях против белых частично присвоил себе Семен Буденный, а потому даже упоминание о нем вычеркивалось цензурой. А тут целый роман. Владимир Карпенко писал мне и о своем романе, и о моей книге:
«Дорогой Витя!
Даже у тебя лопнуло молчание, а я все терплю. Видать, у меня там надежный толкач. Обними ее за меня, пожелай здоровья. (Это о моей маме. – В. П.)
Только что упали с неба на астраханскую землю. В Коктебеле помню только три места: столовку, море и раб. стол. И надо сознаться, по всем трем статьям если не преуспел, то чего-то достиг: привез кг три чистого жиру, морского насморку и листиков до пяти романа.
Мои маненько пропотели. Но Сереге лучше было в Москве, нежели на море. Отдыхать нужно с ним ездить куда-то на север.
Теперь о Борисе. Около пяти листов есть к договору. Сентябрь и октябрь поработаю над всей рукописью, 1-го ноября привезу листов 40. На этом поставлю точку.
Ноябрь давай поработаем на пару в Москве. Ты будешь ставить крыжики, а я их убирать. Если у тебя наляжет рука, подпишешь в набор. Одновременно поработаем с художником.
В Москве тогда встречался с Найдой (историк, консультант издательства, полностью разделявший точку зрения В. Карпенко. – В. П.).
Кажись, как хохлы, мы с ним спелись. Он мне кое-что дает нового в оценке роли Сталина и Ворошилова на Царицынском фронте осенью 18-го года. Он также параллельно с тобой почитает и новую часть рукописи. Если достаточно ваших двух голосов для изд-ва, то и вовсе будет здорово: тогда нам месяца с тобой хватит.
Три слова о «Гуманизме Шолохова». Книга умная, страстная и искренняя. Автор доказательно борется с пропыленными уже точками зрении на творчество огромного писателя. Как и всякая пыль, она скрывает от глаз истинный цвет и форму любой вещи. Надо чаще протирать.
Махнул Петелин тряпкой – вскрылся «всамделишный» цвет под толстым слоем пыли. Правда, «вещь» объемна, массивна, петелинских взмахов немного, – всего не оттерли. Но кое до чего добрались. Больше всего повезло Гришке. Этот смуглый, горбоносый, маслаковатый донской степняк за четыре десятка лет своей жизни в «Тихом Доне» на четверть оброс литературоведческой, критической пылью. У Петелина он зажил первозданной жизнью.
Петелин встречается и плохой. К сожалению, он иногда изменяет сам себе, своему страстному и правдивому голосу, срывается с баритона на альт, а то еще хуже – фистулу. Встречаются целые «одные» страницы: поеши. Кстати, такие же страницы ничто не мешает «выпевать» и тому же Якименку, и даже Лежневу в своих кирпичах.