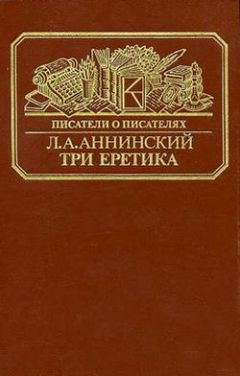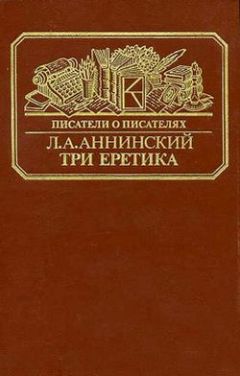Никитенко записывает это в 1864 году. В эпоху „Русского дневника“ никто еще и не подозревает в Печерском народознатца. Обличитель! В качестве обличителя и кредит ему в публике.
Но тогда надо получше выбирать места, где печататься. 17 марта 1859 года главный редактор „Русского дневника“ объявляет в своей газете следующее:
— Ни полного собрания моих сочинений, ни отдельных изданий я до сего времени не печатал. Между тем в Москве, в Петербурге и в некоторых губернских городах появились в продаже „Старые годы“ и „Медвежий угол“ в виде вырезанных из „Русского вестника“ листков, брошюрованных в особой обертке. По достоверным сведениям, число таких брошюр достигает до 400, они продаются по рублю серебром каждая. Я не давал никому права на такую продажу. Засим объявляю (сейчас будет сказано главное. — Л.А.), что обещанные мною „Русскому вестнику“ произведения мои будут напечатаны, думаю, в „Современнике“, и частию в „Русском дневнике“.
Выбор сделан.
„Современнику“ достается рассказ „Гриша“ — действительно яркий, поворотный, вызывающий резкие и сильные эмоции читателей. „Русский дневник“, напротив, печатает нечто невнятное, смутное, какое–то начало без конца: „Заузольцы“ — „повесть Андрея Печерского“. Заведена эта повесть в непривычном, не очень даже понятном стиле:
— Какой славный край это Заузолье! Что за народ там живет!.. Смышленый, сметливый, работящий… Как ни бьется… а хлебушка все мало… Ты, мужичок–лапотник, поишь–кормишь бархатников. Трудись асе, паши, мужичок! Твой труд праведен! Велика тебе будет мзда от создателя. Другой давно бы с голоду помер… а ты не такой…
В двусмысленном тоне этой „здравицы“, конечно, чувствуется привычный всем Мельников–обличитель. Но что–то многовато пафоса — прямо до выспренности. Потом начинается и вовсе нечто из неведомой оперы: промыслы, ярмарки, этнография, вдруг взмывающий былинный стиль.
Двадцать лет спустя все станет ясно: лучшие созданья Печерского, его романы, — берут начало именно с этого „ручейка“, с „Заузольцев“, но в июне 1859 года, когда „ручеек“ принимается журчать со страниц „Русского дневника“, — не вдруг и сообразишь, что это за стиль:
— Вот разворачиваются справные мужички Олонкины… Вот Емельянихин сын Карп выбивается из сирот в писаря… Вот красуется всем на радость Пахомова дочь Паранька, бой–девка, огонь–девка, такая, что и самого исправника не испугается… А вот, Карп Емельяныч зачинает на Параньку глаза запущать…
…На третьем отрывке обрываются „Заузольцы“. И обрывается, кончается сам „Русский дневник“, едва перетянувший на вторую сотню номеров.
Кончается — как станет вскоре намекать Мельников, вследствие трений с начальством. По мнению же историков печати, — от отсутствия подписчиков, дружно отвернувшихся от очередного пышного официоза.
От издательского банкротства спасает Мельникова горный инженер Усов: он как раз в ту пору становится владельцем и редактором „Северной пчелы“ и набирает новый штат, надеясь очистить газету от булгаринской грязи. Он делает следующее: „Северную пчелу“ рассылает подписчикам в возмещение прикрытого „Русского дневника“, а Мельникова с ноября 1859 года берет к себе в штат заведовать внутренней проблематикой. Для Мельникова, уже привыкшего к редакторскому креслу, это, конечно, ощутимое понижение.
Мыслящая публика истолковывает произошедшее как знак начинающегося заката не только карьеры Мельникова, но всего обличительного направления.
Михаил Ларионович Михайлов (которому недолго уже остается до того момента, когда он вместе с Шелгуновым отпечатает в Лондоне у Герцена антиправительственную прокламацию и загремит из литературы в каторгу) проницательно подмечает в февральском номере „Русского слова“ за 1860 год:
— Отдавая полную справедливость честности обличительного направления, надо признать, что оно вновь оттесняется такими художниками, как Тургенев, Писемский, Островский и Гончаров. Имена Щедрина и Печерского, так недавно еще электризовавшие публику, отодвигаются на второй план. Глава и родоначальник обличителей Щедрин — один останется из них в истории литературы…
Еще одну сторону разворачивающейся драмы приоткрывают нам события в Литературном фонде.
Салтыков–Щедрин — Анненкову из Рязани, 16 января 1860 года:
„Правда ли, что Мельникова не допустили даже баллотироваться в члены Общества вспомоществования бедным литераторам? и что Тургенев по этому случаю держал речь, в которой публично заявил некоторые не совсем опрятные факты из жизни этого Robert–Macaire'a? (тип ловкого и беспринципного устроителя своих дел в одноименной пьесе Бенжамена Антье и Фредерика Леметра. — Л.А.) Если это правда, то мне все–таки жаль Мельникова, потому что если он и подлец, то подлец не злостный, а по приказанью“.
Таковы акции Мельникова в глазах общественности при начале его работы в „Северной пчеле“…
Надо сказать, что реальное участие его в этом органе оказывается много тусклее, во всяком случае, по реальным публикациям, нежели можно было бы ожидать и нежели ожидает публика, видящая в Мельникове чуть ли не фактического редактора газеты. Парочка этнографических зарисовок „для нижних столбцов“. Исторический анекдот об Аракчееве. Материалы к биографии княжны Таракановой… Печерский почти исчезает как современный писатель, Мельников же теплится как этнограф, краевед и историк. Впоследствии, уже после разрыва с „Современником“, создастся впечатление, будто Мельников ушел в историю из–за того, что потерпел поражение в публицистической схватке с левыми, но это не так. Он уходит раньше, по внутренней логике развития. „Письма о расколе“ печатаются в „Северной пчеле“ за полгода до того, как вспыхивает роковой пожар на Апраксином дворе. К моменту разрыва эти „Письма“ уже изданы, они становятся яблоком раздора „задним числом“. Сам же разрыв неслышно готовится на протяжении трех лет, и все это время „Современник“ продолжает по инерции рекламировать А.Печерского как своего автора. Меж тем ситуация усложняется день ото дня: и от внутренних причин, и под воздействием влияний парижских и лондонских.
На 1861 год Некрасов объявляет: „…По отделу словесности обещали… свои повести: Тургенев, Потехин, Печерский и другие…“
Тургенев (еще в октябре просивший Панаева не объявлять его) жалуется Герцену в Лондон: „…Я велел им сказать, чтоб они не помещали моего имени в числе сотрудников, — а они взяли да поместили его в самом конце, в числе прохвостов…“ (выделено мной. — Л.А.).