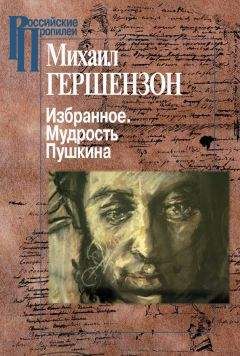Этому определению жара, как движущего начала, соответствует у Пушкина столь же постоянное определение холода, как неподвижности: холод у него всегда характеризуется покоем, сонливостью, ленью: он как бы непроизвольно сочетает эти слова: «хлад покоя» или «холодный сон».
Но скучный мир, но хлад покоя
Страдальца душу волновал
(«Наполеон»).
Но что же теперь тревожит хладный
мир Души бесчувственной и праздной?
(«В. Ф. Раевскому»: «Ты прав, мой друг»).
Прервется ли души холодный сон?
(«Любовь одна – веселье жизни хладной»).
(«Поэт»).
Я влачил постыдной лени груз,
В дремоту хладную невольно погружался
(«К ней»).
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне
(«Деревня»).
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
(«Евгений Онегин», VIII).
Ничто не трогает души твоей холодной
(«Первое послание к цензору»).
Но созерцание Пушкина насквозь конкретно: огонь в переносном значении он мыслит неизменно подлинным огнем, в составе тех признаков, какими обладает это физическое явление. Поэтому холод в символическом смысле означает для него именно угасание со всеми физическими признаками угасания – отвердением и померканием; холод для него – твердость и тьма. Он почти бессознательно соединяет эти понятия:
На поединках твердый, хладный
(«Кавказский пленник»).
или:
Сердца иссохнут и остынут
(«Щербинину»).
Он пишет:
Во дни гоненья – хладный камень
(«Кавказский пленник»).
а в черновой было: твердый. Или в «Братьях-разбойниках»:
Тот их, кто с каменной душой,
а в черновой было: холодною. Он пишет:
(«Уныние», черн.).
Душа, померкнув, охладела
(«Я видел смерть»).
С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему и чуждый умиленью
(«Безверие»).
Итак, основной образ пушкинского миросозерцания построен, как у Гераклита, по принципу безусловного монизма. Он мыслит чистое бытие как невещественно-пламенеющую и светящую мысль, и, наоборот, душевную жизнь – как известные состояния одухотворенного вещества, как полный движения и, конечно, светящий жар, или холод с неподвижностью и тьмою. Это понимание души должно было привести Пушкина в его безотчетном мышлении к той же психологической теории, какую развил Гераклит. Если душа есть по существу движение-огонь, то в своих проявлениях она неминуемо осуществляет закономерные состояния вещества, то есть душевные процессы облекаются в одну из трех форм вещества, либо в газообразную, либо в жидкую, либо в твердую. Это предположение подтверждается многочисленными показаниями Пушкина.
К первому разряду (газообразность душевных состояний) относятся две группы свидетельств Пушкина. Первая обобщается мыслью, что некоторое душевное состояние разлито в воздухе, как бы и есть самый воздух, объемлющий человека, так что человек помимо воли дышит им. Так Пушкин говорит:
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах
(«Бахчисарайский фонтан»).
Он даже не подозревает странности и смелости своих слов, когда пишет в черновом наброске о Тавриде:
Покойны чувства, ясен ум,
Пью с воздухом любви томленье,
и немного ниже:
Тебя я посещаю вновь,
Пью (жадно) воздух сладострастья.
Как в другом месте, приведенном выше, он говорит: «Пылает близ нее задумчивая младость», так он скажет:
Одна была – пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой
(«Разг. книгопрод. с поэтом»).
точно самый воздух, окружающий любимую женщину, насыщен любовью. Таковы же у него многочисленные речения «дышать счастьем», местью, изменой, – например:
Мы в беспрерывном упоенье
Дышали счастьем
(«Бахчисарайский фонтан»).
(Там же).
Теперь дыши его любовью
(«Цыганы»).
Сюда же надо отнести такое выражение, где известное душевное состояние рисуется как насыщенная им воздушная струя:
Желаний огонь во грудь ее вдохнув
(«Гавриилиада»).
Вторую группу, по существу тождественную с первой, но по характеру образа отличную, составляют те речения Пушкина, в которых душа в целом или отдельное ее состояние представляется как бы особенной волной воздуха, пересекающей окрестный нейтральный воздух: «душа летит» куда-нибудь, или «лечу мечтой» куда-нибудь, Самое разительное место этого рода образ совершенно наглядный – уже было приведено выше:
и молнийной стрелой{145}
Душа к возвышенной душе твоей летела
(«К Жуковскому»).
чисто гераклитовский образ огненной воздушной струи,
(«Руслан и Людмила», V).
и сердце понеслось Далече
(«А, Шенье»).
(«Зорю бьют»).
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной
(«Руслан и Людмила», Эпилог).
Я пил, и думою сердечной
Во дни минувшие летал
(«Друзьям»).
Все думы сердца к ней летят
О ней в изгнании тоскую
(«Бахчисарайский фонтан»).
В изгнаньи скучном каждый час,
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем
(«Горишь ли ты»).
Куда с надеждой и тоской
Ее желанья улетали
(«Всеволожскому»).
(«Желание»).
(«Руслан и Людмила», V).
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою
(«Взглянув когда-нибудь»).
Но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову
(«Домик в Коломне»).
Лечу к безвестному отважною мечтой
(«К Жуковскому»).
(«Руслан и Людмила», I).
Наконец, иногда душевное состояние представляется Пушкину в виде воздушного существа, выделившегося из человека и реющего над ним: