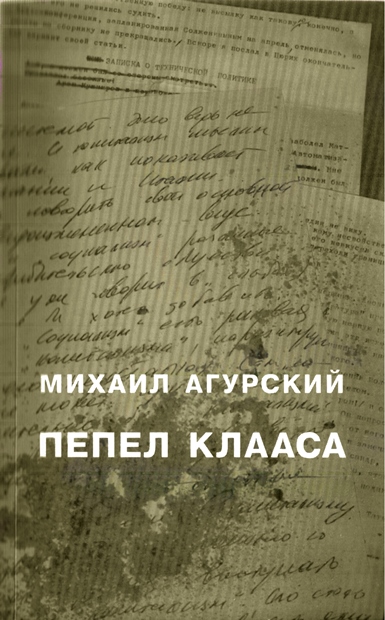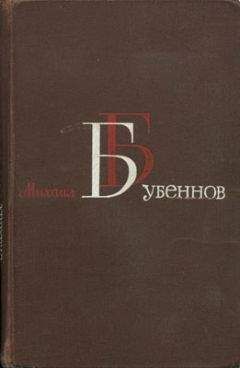проводила лето. Повсюду во Владимирской области уничтожались памятники Сталина. За ночь такой памятник исчез на станции в Черустях. В Меленках иконоСюрчсспю проходило вначале беспрепятственно. На центральной улице стоял памятник Ленина и Сталина. Ильич сидел на скамей ке, а около него внимательно, но не подобострастно склонив голову, стоял Сталин, бросив шинель на скамейку. Утром шестого ноября Сталин навсегда исчез, второпях позабыв шинель и оставив Ленина в одиночестве. Местные балагуры острили, что, мол, придет еще за шинелью-то.
В моих отношениях с А.М. стали накапливаться недоуменные вопросы. Выяснилось, что стихи на библейские темы в его письмах были списаны у Фруга. Осведомленность А.М. в русской культуре оказалась минимальной. Как-то он пришел ко мне на Даев и показал фотографию труппы Еврейского театра с Михоэлсом и Зускиным. В самом центре рядом с Михоэлсом сидел сам А.М. Я внимательно посмотрел на фото: «Вы эту фотографию никому больше не показывайте». Невооруженным взглядом было видно, что это монтаж. Не то, чтобы монтаж был грубой работой. Работал опытный человек. Но поза А.М. была настолько деревянной и так отличалась от живых поз остальных людей на снимке, что это бросалось в глаза. И уже обратив на это внимание, можно было заметить и слабые следы ретуши вокруг лица А.М. Он покраснел и, ни секунды не запираясь, сказал:
— Мелик, дорогой! Простите. Это грехи молодости.
«Причем здесь молодость? — подумал я. — Ведь он-то мне принес ее показывать как подлинную».
— Хорошо! Хорошо! — буркнул я. — Но никому больше не показывайте.
Странно, но это меня от него не оттолкнуло. Я ясно видел, что дело нечисто и что такую фотографию мог ему сделать только профессионал. Трудно представить себе в советских условиях человека, который даже ради денег согласился бы принимать участие в такой опасной работе. Значит, это не было частное лицо? Но А.М. был мне симпатичен! Я чувствовал, что он сложный человек, как бы разделенный перегородками, и одна часть его могла быть не связана с другой. Мне лично он делал только доброе: он служил для меня единственным источником информации об Израиле и вообще был живым человеком. Кроме того, я чувствовал, что ко мне он относится с симпатией.
Жизнь вдруг стала резко меняться. В апреле 1963 года я, наконец, получил долгожданную площадь: две комнаты — тридцать квадратных метров в коммунальной квартире старого дома князей Васильчиковых на Арбатской площади, прямо по соседству с Домом Дружбы. Приятно было снова жить в самом центре Москвы. Ленинка, где я проводил столько времени, была под рукой, две минуты от дома. И вообще я любил Арбат.
Месяца через два после переезда я столкнулся на улице с опальными супругами Молотовыми, которые жили на улице Грановского также в одной-двух минутах ходьбы от моего дома. Молотов шел под ручку с Полиной, они были углублены в беседу. Однажды, снова встретившись с ними, я услышал краем уха, что говорил Молотов жене: «Страна эта большая, но бедная...» Никогда я не узнаю, что за страну он имел в виду, уж не США ли? Молотов любил, чтобы его узнавали, и даже вызывающе и испытующе смотрел на прохожих, охотно отвечая на приветствия.
Часто его можно было видеть и в Ленинке, где он работал в зале для профессоров и иностранных студентов. Раз я столкнулся с ним лицом к лицу и посмотрел на него с отвращением. Он кинул на меня злобный взгляд. Последний раз я видел его во время грибного дождя в 1966 году около Военторга. Народ попрятался в подворотни, а чета Молотовых, нежно прижавшись друг к другу, шла, не замечая ничего, посредине переулка под зонтиком, который держал в руках сам Вячеслав Михайлович.
Именно тогда я начал слушать «Кол Исраэль» [31] на русском языке. От А. М. я получил еще учебник иврита Шломо Кодеша и начал ревностно изучать язык самостоятельно, хотя хватило меня, из-за занятости, ненадолго. Однажды А. М. явился на Арбат очень перепуганный, потребовал назад Шломо Кодеша и более никогда у меня не появлялся.
Впервые я отождествил себя с Израилем в конце 1963 года. В ЭНИМСе незаметно сложился сионистский кружок. Дальше разговоров и обсуждении радиопередач из Израиля дело не заходило, да и слово «кружок» — сильное преувеличение. Тем не менее Илья В., Андрей Клячко, а потом и Саша Табенкин, племянник знаменитого Табенкина, стали моими сионистскими конфидентами. Каждый успех Израиля переживался нами как собственный успех. Но в ЭНИМСе были и другие евреи. Воля Криштул сказал по поводу присуждения Насеру звания Героя Советского Союза: «Конечно, Насер — это Насер. Но, — радостно улыбаясь, продолжал Воля, — он же строит социализм!»
Я уже видел живых израильтян в 1957 году, но вдруг я встретил человека, который побывал в Израиле, в самом ЭНИМСе. Однажды в нашем отделе появились два болгарина. Один из них, инженер Л., гостил в Израиле у родственников и рассказывал об этой поездке с восторгом. Ему даже разрешили посетить завод в Лоде, о котором он, как инженер, отозвался очень высоко.
В декабре 1963 года, уже после рождения моего сына Вениамина (по иронии судьбы — в Меленках), я был в Куйбышеве и остановился в гостинице «Жигули». Там я обратил внимание на юркого небритого еврейчика в фуфайке, сновавшего каждое утро в буфете и со всеми знакомого. За день до моего отъезда он подошел и ко мне:
— Ну, как вам нравится наш оркестр?
— ??
— Вы разве не наш новый скрипач?
— Вы меня с кем-то спутали. А о каком оркестре, простите, идет речь? — спросил я, усаживаясь с фуфайкой за один столик.
— Театра оперы и балета.
— Ах, послушайте. Я видел афишу вашего театра. У вас главный режиссер Геловани. Тот самый Геловани, который в кино играл Сталина?
— Нет, это я, а тот Геловани — мой отец, — сказал мнимый еврей.
— А правда, что ваш отец очень любил Сталина? — спросил я Геловани-сына совершенно доброжелательно.
— Да, — с гордостью ответил он, — это правда. Старик так любил Сталина, что умер в его день рождения в 56 году.
Заинтригованный, я продолжал выпытывать:
— А у Сталина был личный круг знакомств? Я не имею в виду членов Политбюро.
— Конечно! — ответил Геловани и позвал меня к себе в номер.
Он жил там почти год в ожидании квартиры.