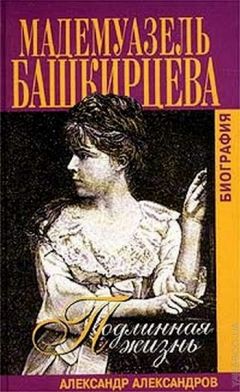«Я гуляла более четырех часов, отыскивая уголок, который мог бы послужить фоном для моей картины. Это улица или даже один из внешних бульваров; надо еще выбрать… Очевидно, что общественная скамья внешнего бульвара носит совершенно другой характер, чем скамья на Елисейских полях, где садятся только консьержки, грумы, кормилицы с детьми, да еще какие-нибудь хлыщи. Скамья внешнего бульвара представляет больше драматизма для изучения: там больше души, больше драматизма! И какая поэзия в одном этом неудачнике, присевшем на краю скамейки: в нем действительно видишь человека… Это достойно Шекспира». (Запись от 21 июля 1884 года.)
Она стала лучше наблюдать, лучше писать, ее дневник это уже настоящая литература, вполне возможно, проживи она дольше, французы через несколько лет получили бы крупного писателя, а уж журналиста во всяком случае. На русском, фактически бытовом для нее языке, она вряд ли бы писала. Она сомневается в своем таланте художника, но не сомневается в литературном даре. Ящики ее стола завалены планами рассказов, романов и пьес. Ведь и последняя фраза ее последнего письма к Мопассану о том же: «Так дайте же мне возможность очаровать вас своими сочинениями, как вы меня очаровали своими».
И все же за это время она написала несколько картин, одна из которых, довольно большого размера, примерно 2 на 2 метра, холст «Весна (апрель)», была куплена для коллекции великого князя Константина Константиновича, а теперь хранится в Русском музее, а другая — пастель «Портрет Армандины» («Армандина — вот идеальная глупость!») приобретена государством для Люксембургского музея с посмертной выставки.
Но здоровье ухудшается, смертельная тоска гложет ее, ничто не идет на лад.
У Бастьен-Лепажа рак желудка, что уже совершенно точно. Она с матерью навещает его в мастерской, где вокруг больного художника разыгрывается домашняя идиллия: его мать в восторге, похлопывает Марию по плечу, хвалит ее волосы и называет ее: «Моя малышка Мари!»: старшая Башкирцева стрижет Жюля, как в детстве стригла своего сына Поля.
Его мать издает радостные крики:
— Я вижу его, моего мальчика, мое милое дитя!
Славные люди. Все друг друга обожают. Бастьен плачет от умиления и шепчет Марии: «Если мне не суждено выздороветь, так по крайней мере, я не должен терпеть такие страдания!» Она гладит его руку и успокаивает, как может и на сколько хватает душевных сил, ведь она и сама больна смертельно, и понимает это. Она смотрит в его серые глаза, чарующая красота которых недоступна, разумеется, для обыкновенных людей. Боль его утихает и он успокаивается, глаза проясняются.
«Я не хотела бы идти к друзьям. Я хотела бы оставаться там часами, целыми днями плакать вместе с ним, спокойно созерцать, как течет время, и вместе с тем, развлекать и отвлекать его. Да, это моя мечта». (Неизданное, запись от 26 июля 1884 года.)
После несостоявшегося романа с Мопассаном она начинает искать, кому бы передать свой дневник. Кандидатуры отпадают одна за другой (Золя, Сюлли Прюдом), еще год назад она написала письмо Александру Дюма-сыну и пыталась назначить ему свидание на балу в Опере, ответ его был оскорбительным, да и каким он еще мог быть, если тот, как Мопассан, не собирался завести интрижку.
Наконец ее выбор останавливается на Эдмоне де Гонкуре, который только что опубликовал роман «Шери» о молодой девушке и который Мария читала. Она пишет ему о себе, начиная самого детства, но он принимает чуть косноязычный лепет и лесть за обыкновенный восторг очередной поклонницы и оставляет ее письмо без внимания.
«Вы как-то сказали, что интересуетесь подлинными записями. Так вот! Та, которая пока никто, но которая считает себя способной понять чувства великих людей, мыслит так же, как и Вы, и, рискуя показаться ненормальной или шутницей, предлагает Вам свои записи. Но поймите меня правильно, месье, я прошу сохранить полнейшую тайну. Девушка живет в Париже, бывает в свете, а люди, которых она называет, ничего не подозревают. Это письмо обращено к великому писателю, художнику, ученому, и мое желание кажется вполне естественным. Но большинство людей, окружающих меня, посчитают меня глупой и осудят, если узнают, что я написала Вам».
Но она ему неинтересна, роман про современную молодую девушку он уже написал и, как все писатели, безусловно считает, что сказал в нем все, что можно и нужно знать про таковую, то есть последнюю и окончательную правду. Тем более, что Эдмон де Гонкур во всем считал себя первооткрывателем, а всех остальных, Золя, например, лишь более или менее талантливыми разработчиками его тем и найденных им характеров. Что ему какая-то незнакомая девушка!
Она принимает приглашение Канроберов посетить их имение и в конце июля уезжает туда на несколько дней, в их комфортабельный дом в английском стиле. Этой истории нет в дневнике. Когда он печатался впервые, все Канроберы были еще живы и, как мы знаем, имели достаточное влияние в обществе. Близится осенняя выставка, в которой она тоже хотела бы принять участие, но Клер Канробер пишет свою картину. Пригласив Марию, Канроберы надеются, что она поможет их дочери. Чтобы упростить себе задачу, Мария пишет картину на тот же сюжет и предлагает замену. Канроберы ей нужны позарез. Она научилась играть в их игры, она понимает, что надо идти на ложь, обман, подкуп, на что угодно, для того, чтобы достигнуть славы, которая столь желанна; одного таланта, труда, умения мало. Талант — это ложь для непосвященных.
Вернувшись в Париж, она снова пытается работать. Встает в пять утра, но утренний Париж не тих, а шумен, зеваки окружают ее на улице и она бешенстве возвращается домой. Сама себе она признается, что никогда еще не была так больна, даже выйти в гостиную к гостям для нее мука. Она позволяет себе это только в редкие минуты.
«Вообще-то, друзья мои, все это означает, что я больна. Я сдерживаюсь и борюсь; но сегодня утром, мне казалось, я было на миг от того, чтобы сложить руки, лечь и ни за что больше не приниматься… но тут почувствовала, что силы понемногу возвращаются, и пошла отыскивать аксессуары для своей картины. Моя слабость и мои постоянные занятия как бы удаляют меня от реального мира; но никогда еще я не понимала его с такой ясностью, с какой-то особенной отчетливостью, невозможной при обыкновенных условиях.
Все представляется так подробно, все кажется так прозрачно, что сердце почему-то сжимается грустью…
И я, круглая невежда и, в сущности, слишком еще молодая, разбираю нескладные фразы величайших писателей и глупые измышления знаменитейших поэтов… А что касается газет и журналов — я просто не могу прочесть трех строк, не возмущаясь до глубины души. И не только из-за этого кухонного языка, но из-за идей их… ни слова правды! Все по сговору или оплачено!» (Запись от 12 августа 1884 года.)