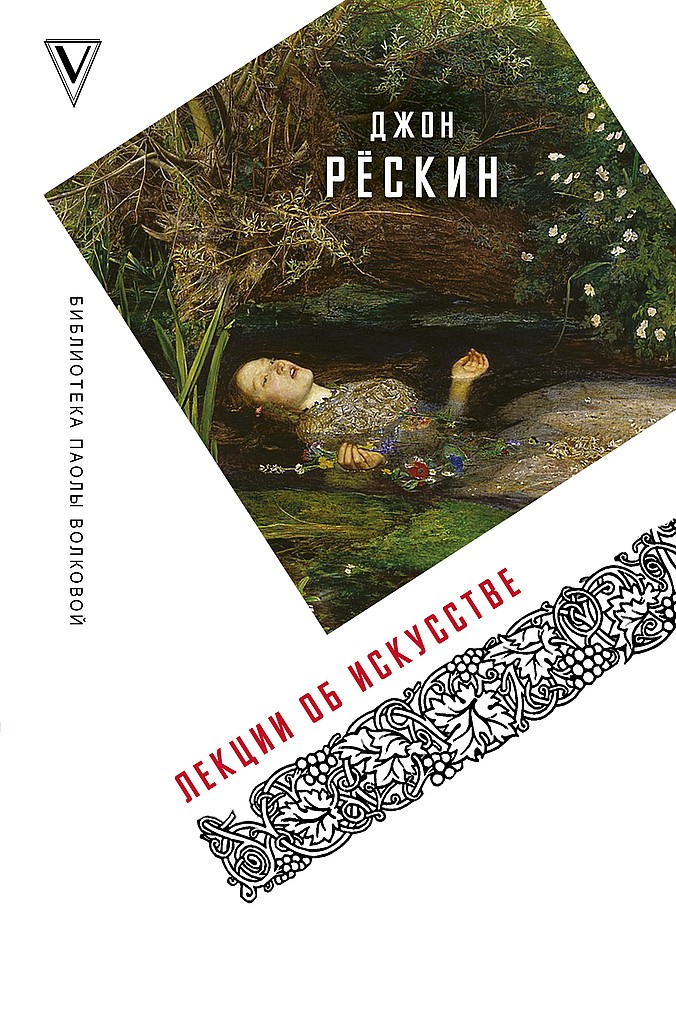словно бездны между величавыми волнами неведомого хрустально-чистого моря; по краям их, словно вместо пены, рассыпались виноградные кисти; кругом них качались в воздухе серебристые ряды померанцовых веток, словно миллионами звезд усеяв серые стены скалы — звезд то потухающих, то вспыхивающих, смотря по тому, наклоняло ли их или приподымало легкое дыхание ветерка. Каждая прогалина, покрытая травой, горела, словно золотое дно неба, неожиданно сверкая, когда листья то расступались, то смыкались над ней, подобно тому, как сверкает молния в облаках во время солнечного заката. Темные неподвижные скалистые массы, темные, хотя и сияющие алыми мхами, бросали свои спокойные тени на эти мятежные лучезарные прогалины; внизу фонтан, обдающий свой мраморный бассейн облаком голубой пыли и шумящий своим беспокойным порывистым шумом, и над всем этим многочисленные полосы янтарного и розового цвета, священные облака, в которых нет мрака, которые существуют только для того, чтобы освещать, виднеются в огромных промежутках, отделяющих сферические сосны, окаменевшие в своем торжественном покое; эти облака плывут, пока не потеряются в последнем, белом, ослепительном свете бесконечной линии, где Кампанья расплывается в сияющее море.
Кто же правдивее в изображении этого вида — Пуссен или Тернер? Сам Тернер в своих даже наиболее смелых и поразительных усилиях не мог бы приблизиться к действительности.
§ 3. Сам Тернер уступает природе в блеске
Но идя по этому месту, вы не могли бы подумать или вспомнить ни о чьем другом произведении, которое бы имело хоть отдаленнейшее сходство с расстилавшимся перед вами пейзажем. И я не говорю о необычном и чрезвычайном; в каждом климате, в каждой местности чуть ли не каждый час природа дает краски, неподражаемые и недоступные ни для каких человеческих усилий. Все краски нашей живописи мертвы и безжизнены при сопоставлении с действительными красками природы даже в том случае, если рассматривать при одних и тех же условиях. Зеленый цвет растущего листа, алый — свежего цветка недоступны никакому искусству, никаким средствам, но вдобавок природа выставляет их при солнечном свете такой интенсивности, которая утраивает их блеск; между тем художник, лишенный этого блестящего союзника, создает такие цвета, которые являются только серой тенью по сравнению с силой красок природы. Возьмите травку или яркий пунцовый цветок, поместите их под яркий солнечный свет и затем сопоставьте с самой яркой картиной, какая только выходила когда-нибудь из-под кисти Тернера, и картина совершенно погибнет. И не мечтая превзойти природу в отношении яркости ее колорита, он не достигает этой яркости даже наполовину. Но расходуется ли Тернером этот блеск колорита на предметы, которым он, собственно, не присущ. Сравним в этом отношении его произведения с некоторыми картинами старинных мастеров.
В Национальной галерее есть картина Сальватора Меркурий и охотник; на левой стороне ее нарисовано что-то такое, в чем автор несомненно намерен было изобразить каменистую гору; отойдя на небольшое расстояние,
§ 4. Невозможные цвета у Сальватора и Тициана
достаточно близкое для того, чтобы видеть все трещины и щели, или вернее, неуклюжие царапины кисти, — зритель убедится, что хотя упомянутая масса на левой стороне не изображает решительно ничего, но художник несомненно намеревался представить скалы. Если в природе гора озарена полным светом и находится от нас на расстоянии достаточно близком, чтобы можно было различить подробности ее камня, то такая скала всегда полна разнообразных тонких красок. Сальватор нарисовал свою скалу без малейшего намека на разнообразие. Предположим, что это простота и обобщение — пусть так. Но что это за цвет? Чистый небесно-голубой без малейшей примеси белого или какого-нибудь видоизменяющего оттенка; кисть, которая только что изобразила самые голубые части неба, набрала той же краски, только погуще в том же месте палитры, и гора вся целиком сделана одним ультрамарином, ничем не смягченным. Горы только тогда можно изображать чисто голубыми, когда между ними и нами находится столько воздуха, что они превращаются просто в плоские темные тени и все детали совершенно утрачиваются; они становятся голубыми, когда сливаются с воздухом, не раньше. Таким образом, эта часть картины Сальватора, заключая в себе горы, совершенно ясные и близкие к зрителю, такие, в которых видны все детали, является грубым, смелым вымыслом, положительным утверждением положительной нелепости.
Среди всех картин Тернера, все равно, раннего или последнего периода, вы не найдете ни одной, в которой зритель различал бы, вследствие близости ее вида, все подробности и которая в то же время была бы небесно-голубого цвета. Тернер изображает голубое там, где он передает атмосферу: это воздух, а не предмет. Он делает голубым свое море, но так бывает и в природе; он сообщает голубой, темно-сапфирный цвет самой крайней дали, но то же делает и природа; он окрашивает в голубой цвет облачные тени и горные ущелья, но так поступает и природа, но Тернер никогда не применит голубого цвета там, где можно видеть детали освещенной поверхности; как только он вступает в область света и характерных черт предмета, теплые и разнообразные цвета врываются в его картину, и во всех произведениях — я имею в виду особенно академические — нет ни одного штриха, которого бы нельзя было объяснить, верного и глубокого значения которого нельзя было бы доказать.
Я не говорю, что у Сальватора даль не заключает в себе ничего художественного. Я могу находить удовольствие и в его изображении дали, и в упомянутых выше изображениях Тициана, фальшь которых еще более очевидна, и в сотнях других, отличающихся такими же смелыми преувеличениями. Может быть, я даже пожалел бы, если бы они были сделаны иначе. Но мне всегда странно слышать, как называют ложной необыкновенную тщательность и внимание Тернера к цвету, тогда как мы относимся с великодушным и наивным легковерием к указанным образцам нелепого и смелого вымысла.
В упомянутой раньше картине Гаспара Пуссена облака окрашены прекрасным, чистым, оливково-зеленым цветом, почти таким же, как самые яркие части находящихся под ними деревьев. Эти облака не могли измениться (или в противном случае деревья должны превратиться в серые),