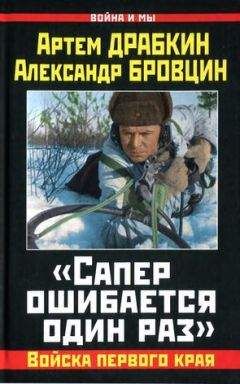У меня два свободных дня, но я не поеду к морю, не пойду в кино. Я сплю. Потом, словно завороженная миром белых халатов, иду к Полю — в его больницу. Я в городской одежде, он — в белом. Заметив меня из толпы своих сослуживцев, он помахал мне рукой. Дескать, сейчас, подожди. Его секретарша знает меня. Здесь Марта имеет право усесться в кабинете главного врача. Марта? Или «голубая малютка» из Порт-Руайяля, ученица днем, партизанка ночью, малютка, которую в 1944 году убили в гестапо?
Мадлен Риффо — не является ли она всего лишь постскриптумом к письму, написанному Райнер? Или длинным вводным предложением между Райнер и Мартой?
Поль сообщает, что завтра он уезжает в отпуск с женой и внуком. Я плохо вникаю в его слова. Он умолкает и, взглянув на меня, садится напротив за письменный стол. Он вновь Поль — мой старший, а я Райнер. Он говорит:
— Я знаю, почему ты больше не пишешь. Ты сейчас уже не наблюдаешь. Ты живешь.
Он берет меня за плечо и дружески встряхивает, — так же, я это видела, он поступает часто и со своими больными (в отличие от «моего» патрона, Поль в общении с больными не терпит посредников — он им сам объясняет их состояние, ободряет). Поль — моя зрелость, а я — его юность. Много-много друзей, погибших в войну, совсем исчезнут из памяти людей, невзирая на почерневшие мемориальные доски по углам улиц, когда нас, выживших, тоже не станет на свете.
Поль говорит со мной на самом секретном моем языке, полушутя-полусерьезно:
— Бедная блуждающая душа, остерегись, ты — накануне перевоплощения. Марта завладевает Мадлен. Давно пора отойти. Ты достаточно насмотрелась для репортажа. Оставь халат в раздевалке. Влезай обратно в свою кожу. Самое трудное ты уже совершила.
Поль прав, но он не все понимает. Оставить службу, где моя бригада, мои больные меня ожидают, — это, пожалуй, даже труднее, чем было покинуть Вьетнам. Отправившись в страну Жюстины, я не взяла обратного билета. Обычная моя рассеянность, ты ведь знаешь.
Совместные наши усилия, общие трудности незаметно, но прочно связали меня с моими товарищами. И с больными тоже — паутина, из которой я не знаю, как выбраться.
Поль предложил мне выбрать книгу из лежащих у него на столе. А я принесла ему «Письма Жое Буске к Полю Элюару», которые он хотел прочитать. Одна из моих примет, в которую я лишь одна и верю. Когда друзья расстаются (не помню уж, в какой из воюющих стран я подхватила этот обычай, за который крепко держусь) — хорошо обменяться чем-нибудь, но не подарками, нет, а вещами, которые надо потом вернуть.
Ты не имеешь права умереть вдали от меня, Поль, ты обязан вернуться, чтобы отдать мне книгу.
Поль — самое верное из моих отражений. Я не хочу, чтоб столкновение машин на забитых отпускниками дорогах разбило единственное зеркало, в котором я отражаюсь вся целиком.
■...Подземелье, сквозняки, лабиринт уходящих вглубь коридоров, тараканы, катакомбы, сырость, мелькающие белые тени, железные двери, подвалы, конечные остановки лифтов. Отнести остатки пищи на кухню. На обратном пути зайти в камеру хранения крови, взять пузырек для назначенного мадемуазель С. переливания.
В коридоре перед рентгеновским кабинетом дверь распахнута настежь, иначе больные задохнулись бы от жары. Я замечаю очередь из людей, пришедших для амбулаторного обследования. Перевалило за полдень. Вызванные на ранние утренние часы, зачастую натощак, они стоят теперь в очереди, после того как прождали этого вызова месяц, а то и два. Чтобы лечиться, надо запастись терпением, выдержать битву, которая утомляет нередко так же, если не больше, как и сама болезнь.
Ожидают больные в узеньком коридоре, нагретом солнцем, прямо бьющим в стеклянную крышу: здесь совсем нечем дышать, не хватает стульев. Несчастные жертвы (как их еще назовешь?) в большинстве ожидают стоя. Персонал, занятый обследованием, перегружен сверх меры. В прошлом году они бастовали и занимались лишь экстренными случаями. Прочих пациентов отсылали в частные клиники. Дирекции больницы это все обошлось дороже, чем если б она увеличила штаты и удовлетворила требования бастующих.
В большинстве больниц положение такое же.
Добавлю, что для консультации у специалистов приходится хлопотать (если нет протекции) и ждать очереди не меньше двух месяцев.
Если же речь идет о случаях неотложных, то, пока больной ждет диагноза, а затем соответствующего лечения, болезнь на досуге делает свое грязное дело.
Потная толстуха забирает мои судки через раздаточное оконце. Она говорит:
— Не часто вас здесь видишь. Вы новенькая?
— Временная санитарка.
— Держи, девушка, миску, поешь-ка этого супа. Тебе нечего опасаться испортить фигуру. А супчик питательный.
Таков, видно, здесь обычай. Дружественный. Здесь никто нас не видит, никто не возьмет на заметку. Не ради ли миски супа Симеон и Жаклина, как только урвут время, охотно предлагают свои услуги для каторжного похода на кухню? Толстуха похожа на нашу смуглянку Жюстину, она наливает полную миску, и я ее опоражниваю.
■...Елена разговаривает по внутреннему телефону. Окликает меня:
— Марта, вас срочно вызывают в отдел кадров.
— Я еще не вымыла ватерклозеты. Такое уж у них ко мне срочное дело?
— Вам объяснят. Идите, обойдемся с уборкой.
...Я уже не так спокойна за свое инкогнито. Что, если проболталась сотрудница социального обеспечения? Я перебираю в уме привязавшихся к Марте больных: кухарку и ту, которую я окрестила «Мыслью». Нет, я не хочу быть отчисленной до срока, несмотря на обещание, данное Полю. Не хочу напяливать шкуру журналистки. Эта профессия осточертела вдруг мне...
В отделе кадров служащий меня спрашивает:
— Вас зовут Риффо Марта — не так ли? Срок вашего контракта по найму скоро истекает. С вами хочет поговорить заместитель начальника по кадрам.
— Мадам, вы работаете у нас почти полтора месяца. Должен поставить вас в известность, что со всех сторон вы имеете наилучшие аттестации. (Черт побери, Марта ни разу не отказывалась ни от какой работы, ни от одной «возмещаемой» сверхурочной задержки.) У нас нехватка персонала. Почему бы не заключить более длительный контракт — на три месяца, потом еще на три — вплоть до включения вас в штат?
— Невозможно, мсье, до тех пор, пока зарплата санитара останется менее 1500 франков, требуемых профсоюзами. Я не свожу концы с концами. К тому же вы знаете, что мы зачастую делаем вовсе не положенную нам работу, не получая за это ни су.
— Верьте, если бы мы были в состоянии. Лично я...
— Как бы там ни было, здоровье мое не выдерживает таких темпов. Я совершенно вымотана.
Мы играем с ним в кошки-мышки, кто кого поймает.
— Я предлагаю вам выход. Вы ведь не замужем, верно? — он проявляет сочувствие, тон его становится почти отеческим. — Мы вскоре предложим вам комнату в крыле, отведенном для персонала. Отпадает утомительный, дорогостоящий транспорт. Комната стоит сто франков в месяц. Питание в нашей столовой. Прикиньте.
— Подумаю.
Едва я вернулась в свою бригаду, Жюстина и Симеон обеспокоенно кинулись спрашивать:
— Чего им понадобилось? Ругались?
— Нисколько. Хотели меня закрепить навечно, комнату даже пообещали — такую, как у нашей смуглянки Жюстины.
— Ишь какие добренькие! — восклицает Жаклина. — Когда ты ее заполучишь, ихнюю конуру?.. Да к тому же... если и заполучишь — закабалишься в больнице навек. И тебя будут требовать каждый момент, чтоб заткнуть очередную дырку. Надеюсь, ты отказалась?
Конечно, я в любом случае отказалась бы. Седовласая Жюстина, которая здесь работает бог знает с каких пор, имеет на это жилье куда больше прав, чем я. А теперь, когда ее покинула дочь... Тем не менее когда мы с ней вместе разбираем ночное белье, она, единственная из всех, мне советует:
— Слушай, а может, для тебя это выход — комната здесь? Как-никак...
Она не завидует, нет, даже рада, что я на хорошем счету. И потом, она так боится сама одиночества, что полна сочувствия к моему (воображенному ею).
Брижитту тоже вызвали в отдел кадров. Вся сияя, она нам показывает 1200 франков, заработанных ею за месяц. Первый заработок. Это уже кое-что...
— Не оставляй деньги в сумочке, — поучает ее Жюстина. — Положи их в карман халата и заколи булавкой, да сверху прикрой еще фартуком. Вот так... Ты ведь знаешь, у нас тут иной раз и воруют. Однажды у Симеона стибрили всю зарплату за две недели. Слишком много народу здесь шастает.
В перерыв Брижитта исчезает, никого не предупредив, и возвращается, нагруженная гостинцами: сок для больных, которых не посещают, рогалики к нашему кофе. Ей хочется отпраздновать то, что она рассматривает как победу над самой собой.
Ввозя тележку с бинтами в служебное помещение, она при всех заявляет, что ее родители будут гордиться, — ведь это впервые она заработала деньги на карманные расходы. «Карманные расходы»... Симеон смущенно улыбается. Жаклина едва сдерживается, чтобы не сказать лишнего. Брижитта объявляет, что завтра — в свой последний день — она принесет шампанское.